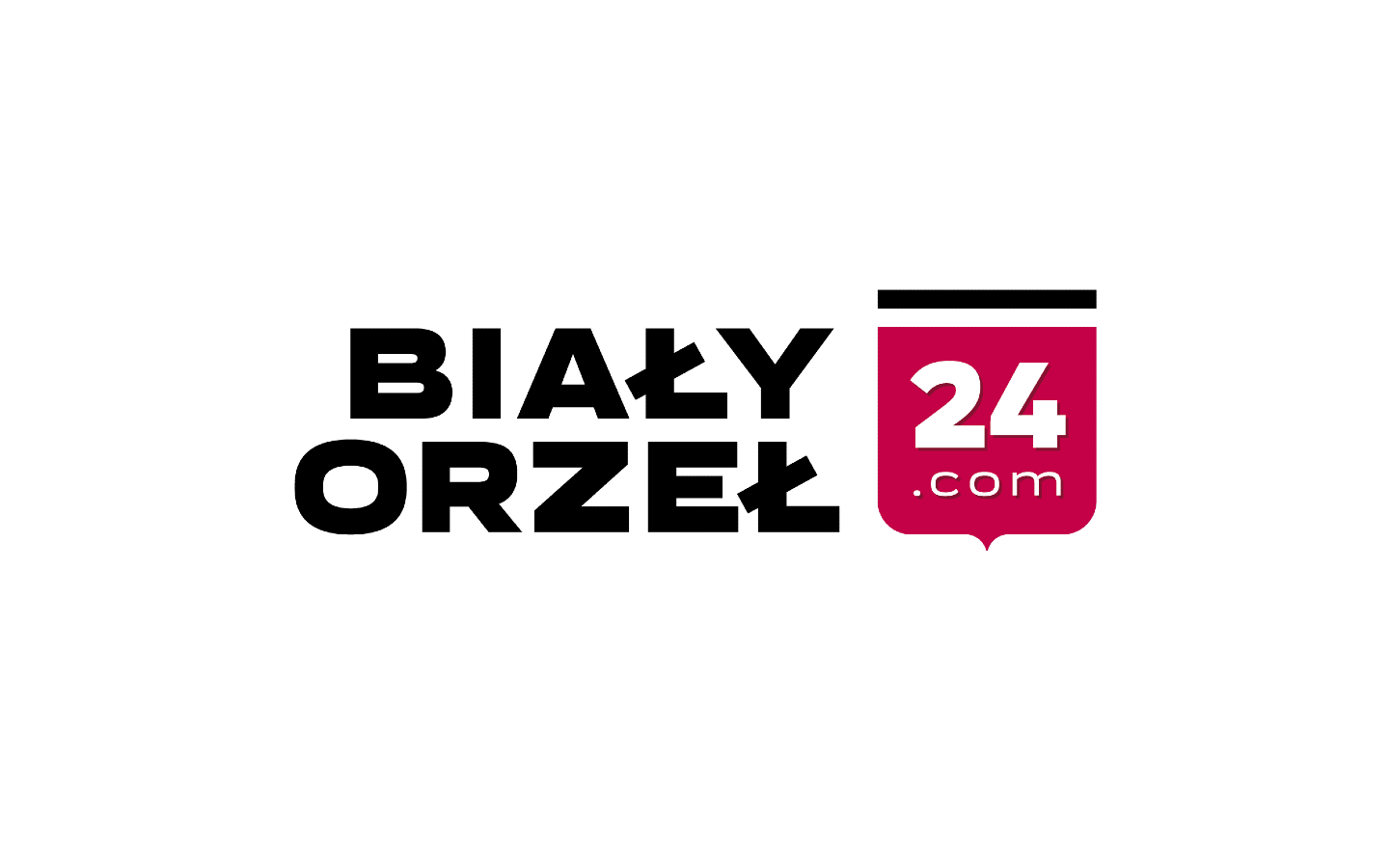17 сентября, День Сибиряка
Александр Шуманский – редакция Кресовской службы
Специально для Blogmedia24.pl
Для членов Сибирского союза 17 сентября — особенно болезненная дата. Этот день лишил их всего – свободы, родины, дома, близких. Каждый год в все меньшей и меньшей группе они встречаются на юбилеях, делают пучки бело-красных цветов и зажигают свечи под памятниками, на могилах и в памятных местах. У сибиряков есть свой гимн.
Гимн Союза Сибираков — «Марш Сибираков»
Из городов границы, восточных поселений и деревень,
Из резиденций, белых усадеб и хижин
Мы все еще на пути к независимости.
Они шли с упорством, более 200 лет.
Они расширили путь царских палачей,
Через Сибирь он вел кратчайший путь
И конфедераты ходили в цепях
Возможно, это были польские...
Из Костюшковской Страхование от восстаний двух,
Школы, баррикады Варшавы и Лодзи:
Дух Конрада плыл
И он привел нас на наш марш в Польшу.
И мы шли и шли — истреблены!
Через тайгу, степи – клубок дорог!
И мы шли и шли — непобедимые!
До тех пор, пока «Чудо на Висле» не дал нам Бог!
Из городов границы, восточных поселений и деревень,
Школы, офисы, жилые дома и хижины:
Вернемся к независимой
Это как 20 лет назад.
Потому что с 17 сентября,
Это был долгий путь, чтобы пойти снова:
Через лед из-под Северного полюса,
Через Любянку, через Катынский лес!
На нечеловеческой земле снова польское обращение
Они помечают безымянные кресты...
Нас не остановил красный палач,
Польша все ближе и ближе!
И мы шли и шли — истреблены!
Хотя враг хотел разделить нас предательством...
И мы прошли через народ - непобежденные
До тех пор, пока свободная Польша не вернется к Богу!!!
Автор Marian Jonkajtys
«В сибирских белых джунглях» Львовского института (сборник стихов) — Мариан Йонкайтыс
Круг мучеников ХХ века, белый крематорий, одиннадцать месяцев зимы, один месяц лета.
Многие из заключенных, подготовленных к перевозке на Колыму, были связаны с островом за Полярным кругом. Между тем, термин Колыма охватывает огромную площадь одноименного речного бассейна, попадающего в Ледовый океан (Восточно-Сибирское море). Он течет из предгорий Черских гор.
На обширной территории речного бассейна, более 2,5 млн кв. км, были развернуты самые жестокие и крупные советские лагеря. Она была почти в восемь раз больше нынешней территории Польши.
Область этих лагерей была ограничена с запада горами Wierchojan и Czerski, с востока Беринговым проливом, отделяющим Азию от Америки (Alaski); северная граница была водами Ледяного океана, южная - морем Ochocki (часть Тихого океана). Этот регион включает восточную часть Якутии, Чабаровскую страну, Магаданскую область и Республику Чукотск.
Климатически это зона Полярного круга, вечного замораживания (вечно замерзшая почва, оттаивающая только летом на глубину 60 – 100 см) с так называемыми холодными полюсами в Верхоянске и Оймяконе, в которых температура достигает минус 70 oC. На юге тайга простирается в долинах рек, на полуострове Чукотский — тундра.
Колесо обладает чрезвычайно богатыми запасами полезных ископаемых, особенно золота – символа его богатства. Кроме того, есть руды олова, свинца, платины, угля, урана и других ценных минералов.
Поскольку в этой области не было рабочей силы для добычи золота и других природных ресурсов, советские власти в начале 1930-х годов применили проверенный на Соловецких островах метод эксплуатации свободного труда заключённых. Эта работа, как и в советской системе ГУЛАГа, имела также идеологическое значение: заключенным предоставлялась возможность выкупать свои вина через работу в исправительных лагерях.
Рабский труд заключенных был смертельным. В шахтах работали 12 часов, две смены. Стандарт для одной смены был очень высоким при добыче золота — для каждого заключенного это было 15 г чистого золота.
В случае ее неудачи, которая часто случалась, голодные порции хлеба уменьшались. Из-за высокой смертности заключённых, достигавшей 80 % штата, по-прежнему отправлялись новые транспорты потенциальных сборщиков золота. Транспортировка заключенных шла из глубин Советского Союза, а также из стран-сателлитов.
Сами пленные строили лагеря среди тайги. В основном это были огромные палатки, рассчитанные на 100 человек, которые были покрыты мхом для согревания. Внутри печь помещалась из железной керосиновой бочки. Несмотря на это, температура в помещении в палатке была около 20 oC. Еда была голодной. Отсутствие чистой одежды и низкая температура истребляли заключенных. Смертельными заболеваниями были пневмония, брюшной тиф и диарея, вызванные дизентерией, а также различные обморожения пальцев, рук и т.д. Каждый год десятки тысяч инвалидов покидали Круг. Тот, кто пережил зиму, считался героем.
Несмотря на наплыв массовых транспортов, рук на работу по-прежнему не было. После окончания Второй мировой войны советские власти направили бывших красноармейцев в колыбельные лагеря, которые были интернированы в нацистские лагеря в качестве военнопленных. Советы считали их предателями своей родины. После освобождения из лагерей военнопленных их перевезли в Москву, где перевезли в Колыму.
Первые поляки — узники XX века — были отправлены на Колыму в конце 1930-х годов. В то время (с 1935 по 1938 год) в СССР проводилась большая чистка. Аресты поляков проводились в Белоруссии и на Украине и в более крупных городах России, где находились большие группы поляков. Заключенные были приговорены к 7, 10 или 25 годам лагерей. Приговоренный к смертной казни, наказание было изменено на 25 лет лагерей по благодати.
Следующая волна польских заключенных была на Колыме после того, как ЗСРС захватили восточные границы республики в сентябре 1939 года.
Аресты и экспорт продолжались с 1944 по 1949 год. За это отвечала служба безопасности Польской Народной Республики. Варшавские повстанцы, молодежь, особенно разведчики, члены АК и других организаций независимости были арестованы и НКВД переданы. Задержанным в основном были предъявлены обвинения по пунктам известных ст.58 УК СССР, "неудача родины", "шпионаж" и "разнообразие". Корабли, приговоренные к многолетним наказаниям, перевозились транспортом в Колыму.
После агрессии ZSRS против Польши сотни тысяч польских жителей Кресова были переселены, некоторые из них в Сибирь (например, Казахстан).
14 июня 1941 года в ночь войны началась советская акция против населения Литвы. За первую неделю было вывезено около 30 тысяч человек. В период с 1941 по 1952 год СССР вывез из страны около 132 тысяч человек, а 21 мая 1947 года погибло 28 тысяч. Центральный Комитет Советской партии принял секретное положение «Об образовании коллективов в прибалтийских республиках» — «Весна 1948 года» — экспорт под кодовым названием «Весна» был второй волной экспорта и крупнейшей такой акцией в послевоенной советской истории. Третий этап очистки - акция "Осень 1951", 4000 крестьянских семей - 16 150 человек - "враги коллективизации". Это были не так называемые репатриации, а вестники в Россию (например, в Буряцкую Монгольскую автономную СРС было вывезено 39 766 человек).
Анатолий Краковский, узник Колымы, пишет: «С нами ехал молодой человек, мальчик. Ему не было 16. Он приехал из Хайновки и был учеником средней школы. Однажды, когда он стоял у решетки, он выскользнул из-за рубашки медаль и лопатку. Охранник потянулся за внезапным движением через решетку и попытался разбить лопатку. Мальчик сразу понял, плюнул в лицо охраннику и отошел. Молчание упало в карете. Мы задрожали, какие репрессии выпадут на мальчика. Тем временем стражник вытер лицо и стал обсуждать Бога. Он говорит, что Бога нет. Он говорит, что никто не видел Бога.
- Ты видел Бога, придурок?
А потом вышел замечательный ответ. На автомобиле был электрический свет.
- Ты дурак, — говорит мальчик спокойно, — Видите эту лампочку?
Я вижу это.
- Оно светится?
- Конечно, светится.
- Итак, вы видите лампочку и видите, что она зажжена?
Я вижу это.
- Знаешь, что делает эту лампочку светлой?
- Электричество.
- Так что порезай, идиот, и загляни внутрь! Вы видите электричество? Ты видишь, как она выглядит? ?
" На протяжении многих лет я повторял этот разговор сам себе время от времени. Там на колесе, в тайге, если бы была возможность, я вскрикнул вслух. В казармах я молчал. Не забудь. Написать его однажды. Я написал... («Книга на колесе», Лондон, 1987).
Конвои, молодые новобранцы НКВД, проводившие сменную военную службу в Колыме, представляли большую угрозу для колымских пленных. Их посадили в головы, чтобы охранять «фашистов». Они действовали как вооруженные садисты. Они стреляли по заключенным каждый раз: нарушения правил, небрежная работа и т.д., без предупреждения. Они получили за это бонусы.
Колымские лагеря были крупнейшими из концентрационных лагерей в мире. В самых жестоких, бесчеловечных условиях там гибли заключенные, не надеясь получить свободу. Смерть на войне не была страшной, самой страшной была смерть на Колыме.
Когда Сталин умер в 1953 году и было установлено новое руководство партией и государством, постепенно произошла ликвидация коллективных лагерей и освобождение пленных.
По оценкам, в советских лагерях погибло более 20 миллионов человек. Из этого Колыма унес около 2 млн жизней. Истинные данные о жертвах советских лагерей неизвестны и, вероятно, никогда не будут известны / По словам Вацлава Василевского - на основе исторического журнала "Независимость и память" 1996 года No 6.
Но природа прежде всего способствовала драме, фактору порабощения; от нее не было выхода. Немощеная тайга, бескрайняя степь, водно-болотные угодья или затопленные реки рассматривались как последовательные полицейские, охраняющие изгнанников, внушающие им чувство бессилия и безнадежности, утраты и утраты в этой необъятности... Природа Сибири была источником физических страданий. В общем сочетании появляется на ее картине серный мороз и снег. Эти атрибуты сибирского посланника раздражали сами по себе, но драма польского населения состояла в отсутствии адекватной одежды и обуви, что позволило бы безопасно и здорово находиться в холоде и снегу и выполнять принудительные работы. Летом, однако, изгнанники страдали от надоедливых насекомых: рои комаров и мух безжалостно кусали каждую открытую поверхность тела, вызывая у людей отчаяние. Спасения от насекомых в квартирах тоже не было. На смену пришли жуки, блохи, вши и тараканы. Беспощадная борьба с ними была лишь частичной и недолгой. Память об этом мучении неизменно является составной частью описаний сибирской судьбы.
Основным содержанием сибирской повседневной жизни была постоянная забота о куске хлеба, и тяжелая работа, часто не поддающаяся силе. Образ переживаний, связанных с этими явлениями, во многом является ощущением эмиссарского образа Сибири.
Голод, понимаемый как самый буквальный, физически пережитый, приводящий к крайнему истощению, и даже к смерти и голоду как призраку, который взвешивает почти трогательную перспективу над большинством ссыльных, — это также четко установлено в памяти польских ссыльных атрибутом сибирской подвязки. Одни люди имели с ним дело почти постоянно, другие только случайно, но, вероятно, не было польской семьи, на которую он не смотрел в глаза. Постоянное недоедание, а также то, как часто балансирование на грани голода является проблемой не только физического опыта, но и явления, определяющего весь ужас ситуации. В результате происходили драматические душевные переживания, они толкали в действия, нарушающие прежнюю систему ценностей, поступки ощущались в то время как унижение самих себя. Ведь такое измерение неоднократно получалось воровством, и это измерение культивировалось многими, особенно детьми, попрошайничеством. Но этот сибирский голод имел и другие значения. Их содержание ознаменовало героическую борьбу родителей за то, чтобы получить хотя бы горсть пищи для умирающих перед ними детей, или солгать друг другу о членах семьи и обеспечить собственную сытость, чтобы побудить ребенка или родителя съесть последний кусок хлеба или последний картофель. Сибирский голод также является явлением, вызывающим жесты человеческой солидарности, жесты, приобретающие ценность в спасении жизней. Все это состояло из изображения Сибири и сибирской геенны поляков столь же значимым образом, как описания пейзажей или мест проживания.
Сибирь для большинства дневников — место рабского или почти рабского труда. Срубить тайгу, поплавок и деревообработку, работать в шахтах – это наиболее часто описываемые, иногда очень подробные, формы эксплуатации польских ссыльных. Для людей, насильственно вырванных из семейных домов и вывезенных в неведомый враждебный мир, исполнение под принуждением было прежде всего элементом порабощения, а начальник района, начальник, председатель колхоза, стал символом системы. В то же время работа является основным источником средств к существованию, хотя зачастую ее недостаточно для выживания. Она также стала платформой некоторой интеграции с окружающей средой: в относительно небольшой степени на севере до лета 1941 года, в крайне крупных масштабах в Казахстане, но после так называемой амнистии также и в других областях. В ходе и в связи с этим изгнанники вступали в различные отношения с соработниками разных национальностей и культур. Это была также возможность узнать о механизмах функционирования советской экономики, менталитете советского работника, навыках управленческого персонала. Все эти элементы можно найти в изображениях, нарисованных рукой журналиста-Сибирака.
Опыт инопланетного пространства, воспринимаемый как враг и угрожающий, переплетался с опытом нового статуса — статуса порабощенного человека, для которого это пространство, как в физическом, так и в ментальном смысле, индивидуальном и групповом смысле, было «домом плена». Новый природный ландшафт и новая социальная среда интерпретировались с точки зрения порабощенного человека и человека, принадлежащего к другой культуре. Уже увиденное во время путешествия чувство необъятности сибирской земли, углубленное на месте вынужденного расселения, переплелось с чувством беспомощности перед лицом увлекательной системы. Эта необъятность ощущалась как фактор разрушения, как элемент несчастья и разрушения человека, брошенного туда. Она сочиняла себя вместе с ужасающей нищетой повседневного существования и часто слышала заверения различных офицеров системы, что поляки пришли туда «умереть». С другой стороны, эстетическая чувствительность, в том числе красота природы, даже опасная и враждебная, является своеобразным испытанием цивилизации, по крайней мере в европейской культуре...
Даже если в отношениях есть образ кормушки тайги, которая стала спасением, доставляя лесные фрукты, птичьи яйца или даже березовый сок в качестве противоядия от цинги, необходимость использовать эту функцию является доказательством деградации, голода, бедности. Экспедиция в сибирскую тайгу руно, несмотря на использование одних и тех же слов для ее описания, не имела ничего общего с идиллической картиной заготовки грибов, сбора ягод в лесу рядом с домом семьи или с отдыхом. Это была мрачная необходимость, продиктованная борьбой за выживание в самом экзистенциальном смысле и в то же время своего рода конфронтацией с опасным элементом... Описания пейзажей в эмигрантской литературе часто обнажают отсутствие желательных качеств. Такие термины, как бесконечность, необъятность, непорочность, включают аспект негатива. Особенно, когда это изображение контрастирует с напоминанием о семейных страницах. Память об этом «нормальном» противостояла здесь «ненормальному». В мемуарах, хотя они и были написаны в подавляющем большинстве после возвращения из «другого мира», часто встречается такой мотив столкновения содержания памяти с реальной средой...
Сибирь — место коллективного опыта, где лично пережитые страдания переплетались с национальными страданиями, это было частью национального мученичества. Последний появился в двух временных перспективах. Первый, нынешний, включает в себя время, измеренное со времени первого вывоза в феврале 1940 года, и в нем непосредственно расположены сам дневник, его родственники, друзья, поляки и польские граждане, преследуемые СССР. Вторая, историческая, трактует военные депортации как еще одно звено из цепи, начинающейся адвокатами. Ссыльные 1940—1941 годов не раз прослеживали своих предшественников, но, вероятно, не те факты, а образ мифа Сибиру и Сибирака, который функционировал в их сознании, решившего связать себя и судьбу прошлых поколений, следующих теми же путями. В этом смысле Сибирь не была неизвестной землей. Этот исторический Сибирь постоянно фиксировался в национальной традиции, его образ передавался из поколения в поколение, увековечивался в школьном образовании, литературе и живописи. С ним росла легенда о сибиряках. Каково было реальное социальное распределение знаний о Сибири и польских отношениях с ней чрезвычайно трудно сказать, и это здесь не интересует. Однако, по-видимому, за пределами интеллектуальных кругов это было знание довольно плохое и не могло быть иначе. Она состояла из нескольких изображений, написанных в школьном учебнике, некоторого представления о размножении, висящем в школе, а не дома, иногда устного семейного сообщения. В группах с более высоким уровнем образования, чтением в литературе, о живом контакте с художественной культурой эти знания были не только шире, но и различны, потому что земные или разумные среды, о благородной главной родословной, были одновременно носителем памяти о восстании прошлого нации и связанном с ним сибирском мученичестве. И теперь сибирская судьба другого поколения поляков была исполнена. Во многих дневниках этот элемент можно ощутить более или менее отчетливо, часто несущий в себе некоторое чувство национальной судьбы, иногда гордость за принадлежность к этой многопоколенческой цепи и за вхождение в историю.
Этот замученный образ Сибири в обоих его временных измерениях имел четкие отсылки к проблемам польско-российских отношений, придавая им прежде всего измерение отношения жертвы-преследователя. Отношение к ссыльным может быть заявлено прежде всего на основании рассказов самих депортированных, поэтому это прежде всего картина приема поляками установок и поведений по отношению к ним, таких, какие хранились в их памяти.
Следует добавить, что он особенно уязвим для тишины и искажений, или смягчения описаний и оценок явлений в этой области, или наоборот, их обострения. Дневники довольно неохотно говорят о том, чтобы относиться к себе унизительно, унижая человеческое достоинство. Они, скорее всего, относятся ко всей группе, а если к отдельному человеку, то к третьей стороне. Возможно, это своего рода смущение, когда к нему относятся таким образом, не столько для того, чтобы развеять его из памяти, сколько для того, чтобы не любить обнародование подобного опыта. Вообще дневники четко отделяли отношение властей и различных функциональных работников советских учреждений и компаний от отношений простых людей, и это разделение не всегда совпадало с положительной или отрицательной оценкой этих отношений. При этом различия могут наблюдаться в поведении и отношении местного населения в зависимости от его национальности. Далеко не тождественны мнениям ссыльных о соответствующих национальных группах, это усложняет полученный образ. В конце концов они, кажется, определили специфические особенности индивидов и условия, при которых складывались взаимные отношения. Поведение самих поляков не было незначительным.
В мемуарах польских изгнанников другие жители Сибири предстают прежде всего в контексте повседневной деятельности, борьбы за выживание, возможно, как реализаторы рабства. Контакты с местным населением в случае депортированных в Сибирь были весьма ограничены до лета 1941 года. Большинство из них жили в отдельных связках. Ситуация изменилась после так называемой амнистии, когда большая часть оставшихся в Сибири вообще перебралась либо в городские центры, либо в колхозы. Там, однако, они чаще всего встречались с русскими и украинцами, и поэтому те группы, с которыми они уже имели контакт. С другими коренными народами Сибири, которые могли привлечь внимание поляков в гораздо большей степени своей экзотикой, контакты были спорадическими и чаще касались отдельных лиц, чем общин. Они редко давали более широкое отражение в своих мемуарах. Контакт с местным «иностранцем» в первую очередь фиксируется в уровне его отношения к положению ссыльных. Дневники содержат много информации о простых людях и системных офицерах, об их красивых и мерзких поступках. Однако место жительства как контекст этих отношений не является существенным, ибо трудно было бы доказать разницу между Сибирью и другими частями империи. Однако относительно мало попыток описать местные сообщества в образе этнологических наблюдений, которыми изобиловали многие дневники XIX века, а также множество военных воспоминаний из Казахстана или Узбекистана.
Образ Сибири, выходящий из ссыльных отношений, многогранен и многослойен. Чрезвычайно интересное в пласте описания природы и социального окружения, оно также скрывает глубокие слои эмоций, построенные на драматическом опыте. Его анализ позволяет сформулировать выводы о мире старых переживаний, но прежде всего о механизмах формирования индивидуальной и коллективной памяти. Однако на протяжении многих лет социальная циркуляция эмиссарского образа Сибири была крайне ограничена, порой даже не с привлечением ближайших депортированных, но в результате публикации большого количества сибирских воспоминаний эта ситуация уже изменилась. Было бы крайне интересно изучить, изменило ли и как это представление о функционировании Сибири в польском обществе. В большей степени важно также изучить, как эти идеи развивались в прошлом в различных социальных и временных секциях.
Исследования такого рода могли бы принести интересные результаты не только с точки зрения места и роли сибирской проблемы в осознании (особенно исторического) поляков, но и важные для изучения явлений, связанных с формированием разного рода отношений к окружающей среде, как родной, так и международной. / согласно Станиславу Цесельскому 2003 — «Сибирь в глазах польских изгнанников времён Второй мировой войны». http://siesielski.republika.pl/sovdep/polacy/syberia.html
Выдающаяся польская поэтесса Беата Обертыньска, дочь Марьилы Вольской, после агрессии СССР против Польши, во время советской оккупации Львова, в июле 1940 года была арестована НКВД. Она находилась под стражей в пресловутых Львовских Бригидах, затем последовательно заключалась в тюрьму в Киеве, Одессе, Харькове, Старобельске, наконец отправлена в лагерь Лох-Ракуту. Воспоминания о своей судьбе она написала в издании «Мы депортировали», которое представляет воспоминания поляков из тюрем, лагерей и ссыльных в СССР при разработке и отборе Богдана Клуковского. В исследование вошли мемуары Юзефа Чапского, Вацлава Групинского, Густава Херлинга – Грудзинского, Анатолия Краковского, Беаты Обертынской, Яна Казимеж Умиастовского.
Вот фрагменты «Дома порабощения» Марты Рудзки / по прозвищу Беата Обертыньска / — Рим 1946:
"...в течение часа весь этаж заполнен кучей равнодушных женщин. Однако в этой герметичности нет места для всех, и она даже не на обеих ногах одновременно. Например, я должен стоять буквально один раз на одной ноге, один раз на другой, держа в руках сумку. Из стены холодно. Я голоден, устал и холоден до костей. Через три часа мы начинаем бунтовать. Удар в дверь не работает.
Весь коридор с неучтенными ключами, он уже давно стучится в дверь, кричит, зовет, ругается. Пол бетонный и бетонные стены. Все капает влагой и пахнет человеческими фекалиями. И к этому отвратительному холодному месту принуждают двадцать холодных, усталых, голодных женщин. Сиденье с коленом затягивает дверь, запирает нас и уходит. Это только через пять часов, поэтому глубоко в ночь ключ грызут, рельс стоит на пороге и позволяет, группам по пять, идти под охраной в туалет. Кто-то, кто не видел такой ванной, не может даже воссоздать представление об этой отвратительной вещи. Нам уже все равно. Прямо рядом с бетонными отверстиями жидкости в грязной разбитой раковине стиральной воды. Сожженные жаждой и голодом, мы пьем его, как можем, либо рисуя руками, либо подкладывая губы под снежные краны...
... Порывы бьются и холодно тащат хулами снег здесь на огне. Мудрец стучит в дверь, нетерпеливо ведет нас и говорит, чтобы мы вернулись к ней. Вот как эти проклятые бетонные клетки называются в тырме. А потом черная завеса, полная тьма, проклятие, зловоние и паразиты других. В такой гиклей нет воздуха. Много несовершеннолетних проституток... Вы из Польши, — спрашивает он наконец. И вы те, кто освободил меня от иронического смеха... и ночью я просыпаюсь с холодом и ветром, сдувающим брезентовое окно. Скачок температуры настолько внезапный, что у него должна быть более глубокая причина. Из палаточной ямы он пылит мне в лицо мокрый тяжелый снег, который уже полон меня. Как дела завтра? В этих тряпках, дырках, полусвязях? Я верю, что дорога не продлится долго. Это продолжалось три недели. Двадцать дней гниения в этой тесноте под потолком, двадцать дней не мытья, не раздевания, вшей, голода, холода, усталости, акушерок. .. После нападения Германии на ZSRS Beata Obertyńska, которая впоследствии была освобождена от Сикорского-Майского соглашения, присоединилась к польской армии в ZSRS под командованием генерала Владислава Андерса. В 1942 году она эвакуировалась вместе с армией Андерса в Иран, прошла весь боевой путь польской армии: Иран, Палестину, Египет и Италию. Служила в звании лейтенанта в штабе образования II корпуса в Риме. После войны поселилась в Лондоне. Она публиковалась в Journal of Poland and the Journal of Soldiers, White Eagle, Fighting Poland, Volunteer, News, Life, Polish Review. Она получила много литературных премий, в том числе Лондонский универсальный обзор (1967), Фонд Ланкоронского (1972), Ассоциация польских комбатантов (1972), Премия Юржиковского (1974). Умерла 21 мая 1980 года в Лондоне.
Александр Шуманский, Алина де Кронкос Борковская Шуманская