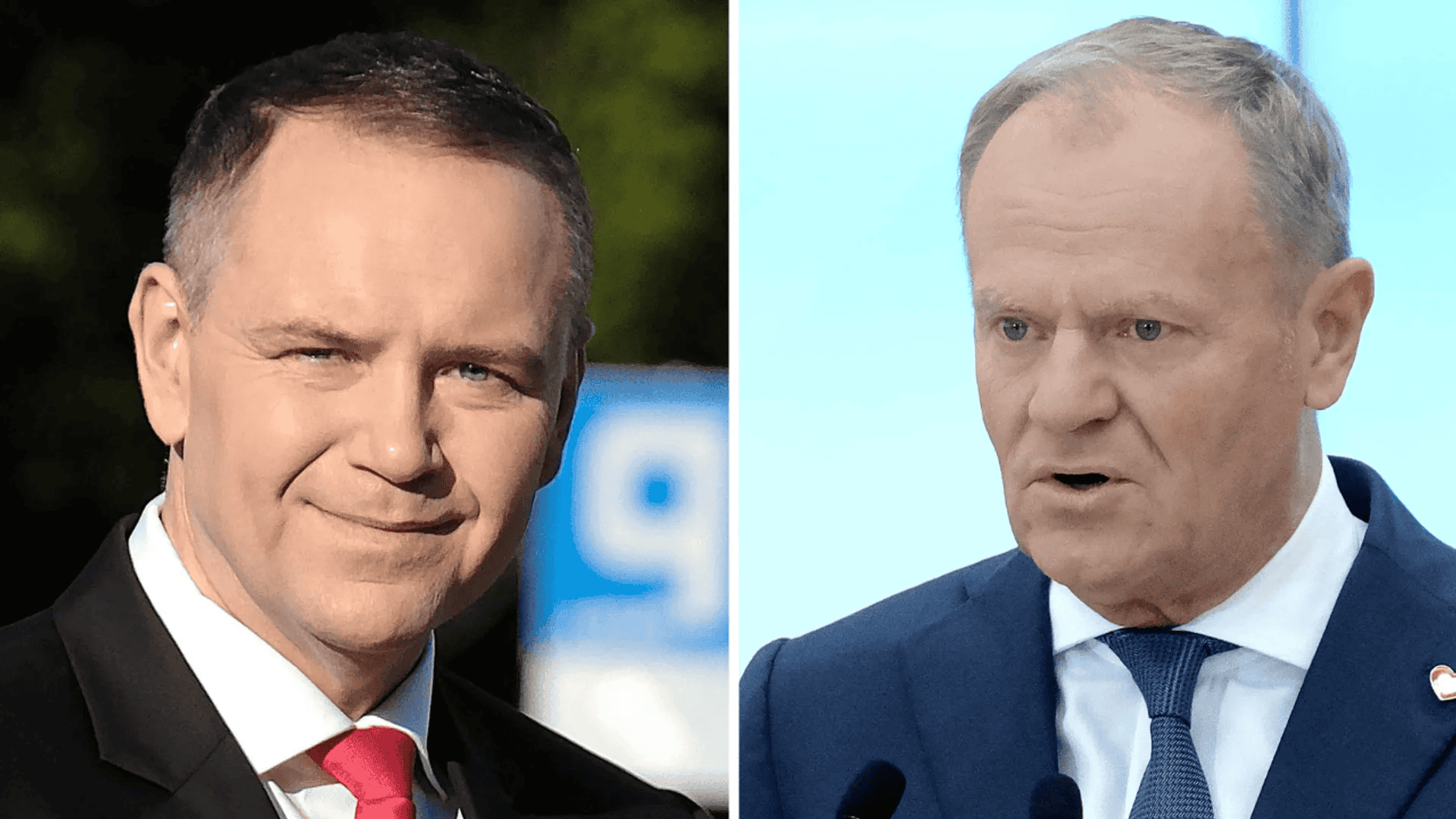Уровень зрелости демократии основан на установках, связанных с социальной чувствительностью и просоциальностью, которые могут и должны специально касаться тех, кто работает на задворках, не сталкиваясь с жесткими правилами неолиберального мира по различным причинам.
Производство людей-отходов, людей-отверженных или людей-преобразования является неизбежным эффектом модернизации, согласно Зигмунту Бауману, как побочный эффект порядка. Хорошо функционирующие общества имели рабочие места для всех и высокую производительность для всех. Однако каждый тщательно построенный порядок отвергает часть населения, рассматривая его как коллектив людей «не на своем месте», «не годных к остальным», или, наконец, как «неблагоприятные элементы». Люди, которые расходуются, невидимы, незамечены, те, кого мы проходим каждый день, не замечая их присутствия, но они принадлежат обществу. Их непрактичность усугубляется тем фактом, что к ним относятся как к людям, которых следует содержать, предоставляя им средства для выживания, рассматривая их как паразитов на других. Мы имеем дело с растущей группой людей, которые были лишены необходимых ресурсов для биологического и социокультурного выживания (Bauman, 2005, p.15). В противном случае мы живем в мире привилегированных и непривилегированных людей, и эта человеческая дихотомия становится яснее, разделяя людей на «необходимых и расходных людей, лишенных фактических прав, ненужных, недействительных, несуществующих» (Stawiszyński, 2021, p. 33). Трещина в отношении тех, кто является необходимым, необходимым и, следовательно, привилегированным, в противовес ненужным, маргинализированным и исключенным, становится все более очевидной и захватывающей. Гуманизм требует, чтобы судьба тех, кто многим безразличен, и чтобы были предприняты действия, которые могут минимизировать негативные последствия исключения и стигматизации ненужных.
 Отходы человека - в Бауманском смысле - Они расходные люди. Их непрактичность связана с бесполезностью, ненужностью, чрезмерностью, перепрограммированием. Общество убеждает таких людей в том, что без них оно совершенно, лишая их права быть увиденными и оцененными. Давайте вспомним Баумана, чтобы более точно проиллюстрировать ключевую категорию ненужности для нашего рассмотрения: «Признать кого-то «необходимым» означает выбросить его, потому что он должен быть выброшен как пустая и невозвращаемая пластиковая бутылка или использованный одноразовый шприц, непривлекательный продукт, для которого у него нет покупателей или бесполезный, выбранный или поврежденный продукт, удаленный из ленты контролерами качества» (Bauman, 2005, p. 25). Мы все чаще можем наблюдать за процессом, в котором люди рассматриваются как вещи, а вещи как люди. Понятие ненужности дает понять, что это не состояние аномалии, временной дисфункции или временной нерегулярности. Скорее, это состояние, в котором аберрация одобряется, рассматривая ее как неотъемлемый элемент реальности. Ненужность, кажется, естественным образом сочетается с тем, что мы рассматриваем как выброс, дождь, мусор и, следовательно, ненужный балласт.
Отходы человека - в Бауманском смысле - Они расходные люди. Их непрактичность связана с бесполезностью, ненужностью, чрезмерностью, перепрограммированием. Общество убеждает таких людей в том, что без них оно совершенно, лишая их права быть увиденными и оцененными. Давайте вспомним Баумана, чтобы более точно проиллюстрировать ключевую категорию ненужности для нашего рассмотрения: «Признать кого-то «необходимым» означает выбросить его, потому что он должен быть выброшен как пустая и невозвращаемая пластиковая бутылка или использованный одноразовый шприц, непривлекательный продукт, для которого у него нет покупателей или бесполезный, выбранный или поврежденный продукт, удаленный из ленты контролерами качества» (Bauman, 2005, p. 25). Мы все чаще можем наблюдать за процессом, в котором люди рассматриваются как вещи, а вещи как люди. Понятие ненужности дает понять, что это не состояние аномалии, временной дисфункции или временной нерегулярности. Скорее, это состояние, в котором аберрация одобряется, рассматривая ее как неотъемлемый элемент реальности. Ненужность, кажется, естественным образом сочетается с тем, что мы рассматриваем как выброс, дождь, мусор и, следовательно, ненужный балласт.
Ненужные люди деклассированы, считаются бесполезными и еще более доминирующими. - Не думаю, что я это сделаю. Столкнувшись с безнадежностью собственной судьбы, они не пытаются ни за что бороться и просят об этом. Это те, о ком никто не заботится, никто не думает о них, высасывая их существование из какой-либо материальности. Это все те, кто когда-то получил «разрушительное» общение, неспособный приспособиться к новым условиям, «падению» обанкротившихся рабочих мест, а также сотрудники ПГР, интернализующие заученную беспомощность, освобожденные от различных реструктуризаций. Важной категорией, на которую стоит опереться, является синдром выученной беспомощности. Обычно это определено как определенное осознанное состояние реакции на трудные, недружественные ситуации, которых человек не может избежать, или невозможно выйти из них (Селигман, 2002, Ярмаковский, 2009, Гонсиоровская, Гроховская, 2012). Как отмечает Мартин Селигман, люди, проявляющие в своем поведении выученную беспомощность, не могут функционировать без социальной поддержки извне, у них низкое чувство смысла жизни, у них есть чувство вреда, а к тем, кому лучше, относятся с враждебностью и недоверием. Именно эти люди чаще всего демонстрируют пессимистические сценарии, объясняющие жизненный опыт.
Наученная беспомощность тесно связана с чувством контроля над подкреплениями (Rotter, 1966). Одной из ключевых переменных, отличающих людей, является чувство контроля над своей жизнью. Если человек признает, что успехи, но и неудачи являются случайностями его собственной работы, приверженности, личностных качеств, то мы говорим о внутреннем чувстве контроля. Человек с внутренним чувством контроля присваивает себе контроль над тем, что он испытывает. Люди с внутренним чувством контроля независимы, эффективны и эффективны в своей деятельности. Они более гибкие и активные, когда возникает проблема, быстро учатся и учатся на своих ошибках. Противоположностью таких лиц являются индивиды с внешним чувством контроля, которые убеждены, что их жизненная ситуация является случайностью совпадения, случайности или намеренного действия других людей (Rotter 1966). Люди с внешним чувством контроля особенно склонны к развитию болезни приобретенной беспомощности.
Появление поведения, называемого приобретенной беспомощностью, является случайной реакцией на неконтролируемые ситуации, которые интерпретируются индивидом как таковые, на которые он не имеет влияния (Domachowski, 2002). Это означает, что человек впитывает мышление, что приводит к убеждению, что принятие конкретных действий не предполагает получения желаемых результатов. Иными словами, индивид узнаёт, что между действием и непринятием его нет существенных различий, ведущих к доминированию в его поведении пассивности, апатии и, следовательно, отставке любой деятельности.
 То, как человек понимает и интерпретирует свои собственные неудачи, важно для процесса развития синдрома приобретенной беспомощности. Если она пессимистична, то с большой долей вероятности приводит к кристаллизации выученной беспомощности. Когнитивные искажения, затрагивающие ненужных людей, проявляются в доминировании мышления, основанного на выученной беспомощности, что делает воспринимаемую связь между действием и его действием негативной. Именно расходные люди могут особенно часто испытывать то, что называется обучением беспомощности (Sędek, 1991), то есть повторяющиеся и повторяющиеся переживания, которые порождают чувство неспособности конструктивно решить проблему. Первый опыт такого типа может начаться в школе, когда ученик, получивший ярлык слабого, несмотря на его усилия улучшить свою работоспособность, не может выйти из заколдованного круга слабого ученика. Взрослый, преуспевающий в жизни, оценивает свою ценность через призму оценок, которые он получил в школе.
То, как человек понимает и интерпретирует свои собственные неудачи, важно для процесса развития синдрома приобретенной беспомощности. Если она пессимистична, то с большой долей вероятности приводит к кристаллизации выученной беспомощности. Когнитивные искажения, затрагивающие ненужных людей, проявляются в доминировании мышления, основанного на выученной беспомощности, что делает воспринимаемую связь между действием и его действием негативной. Именно расходные люди могут особенно часто испытывать то, что называется обучением беспомощности (Sędek, 1991), то есть повторяющиеся и повторяющиеся переживания, которые порождают чувство неспособности конструктивно решить проблему. Первый опыт такого типа может начаться в школе, когда ученик, получивший ярлык слабого, несмотря на его усилия улучшить свою работоспособность, не может выйти из заколдованного круга слабого ученика. Взрослый, преуспевающий в жизни, оценивает свою ценность через призму оценок, которые он получил в школе.
Процесс дегуманизации, принятия субъективности людей и их излечения обычно начинается с эксклюзивного и стигматизирующего языка. Говорит Гай Стоящий: «Борьба за признание... касается легитимности группы как социального субъекта. Это борьба за изменение восприятия классов и моделей эксплуатации и угнетения. Это также борьба за восстановление языка» (Standing, 2014, p. 24). Они, как правило, безмолвны, лишены своих прав, не могут возражать, а другие за них говорят. Языковые ярлыки и общие поговорки, такие как «дети и рыбы не имеют голоса», показывают, как легко лишить кого-то своей субъективности. В концепции пирамиды ненависти Гордона Олпорта (1954) процесс враждебности начинается с отрицательных терминов и комментариев к отдельным лицам или социальным группам. Это приводит к избеганию различных людей или групп, которые считаются неполноценными. Ненужность приводит к дискриминации, и это часто приводит к прямым физическим нападениям. Экстремум пирамиды ненависти становится истреблением, или массовым уничтожением целых социальных групп, как было истреблено еврейским населением во время Второй мировой войны. Процесс дегуманизации, а следовательно, и признания людей ненужными, может происходить как минимум на нескольких уровнях. Особенно дегуманизируется, по-видимому, описанная Фроммом и Кепинским как стратегия, которую мы можем определить как объективность Люди, которые проявляют себя через восприятие другого человека как объекта или товара, как это иллюстрируется корпоративным языком, рассматривающим эксплуатируемых работников как «возобновляемые ресурсы».
Лингвистический процесс дегуманизации людей наблюдается путем предоставления языковых ярлыков и стигматизации терминов. В случае этих беженцев использовались такие термины, как «дикие орды», «дикие варвары» или «исламские звери». Следует также обратить внимание на стигматизацию беженцев терминами, которые в значительной степени вытекают из военной риторики. Беженцев часто называют «исламским тараном», «захватчиками», «колонизаторами», признавая, что они осуществляют «вторжение», «завоевание» или «завоевание». Эти необоснованные преувеличения подпитывали страхи, наполненные тревогой, усиливая отношение обиды к незнакомцам, которые считались угрозой. Озабоченность по поводу беженцев также усилила многочисленные метафоры воды, изобилующие терминами «волна», «провал», «приток», вызывающие ассоциации со стихийным бедствием, которое не может контролироваться и затрагиваться обществом.
Субъективность сочетается Стратегиямеханизация Показывая людей так же, как машины, и таким образом сущности без чувств, эмоций, всегда работающие одинаково эффективно, не имеющие права проявлять слабость. Ожидается, что работники будут одинаково эффективны независимо от обстоятельств, как студенты или студенты. И хотя много говорится о процессах гуманизации труда, трудно видеть, что это переводится в конкретные действия или изменение философии мышления о человеке в организации. Следствием распространения человеческих стратегий объективации и механизации может быть дегуманизирующее невежество, столь типичное для категорий людей. Неповиновение проявляется в исключении, игнорировании или предотвращении голоса. Этот механизм может наблюдаться, например, у детей, которые редко лечатся с одинаковыми симптомами. Не менее опасным становится Стратегия анимализации и биологииЭто часто встречается в дискуссиях о беженцах. Это то, что люди приписывают животным свойствам или характеристикам, типичным для биологической угрозы, создавая тем самым неоправданный страх и отвращение, как иллюстрируют термины, используемые для людей типа «серый», «черви», «насекомые», «инфекции», «инфекции» или «грязные».
Неприятным, сильно стигматизирующим термином является фраза «нелегальный иммигрант». Этот термин предполагает действия мигрантов, которые происходят вне закона и с нарушениями законов. Она призвана использовать инклюзивный, про-беженский язык, который указывает на то, что человек не может быть незаконным, только любое действие или действие может иметь такой характер. Более подходящим и уместным термином является определение типа нелегальных мигрантов или нелегальных мигрантов.
Следует обратить внимание на один из неправильных и более распространенных терминов, так называемый «кризис беженцев». Именно этот термин направляет наше внимание на угрозы, которые беженцы могут потенциально вызвать, вместо их драматической ситуации, чтобы избежать войны, что часто является вынужденной необходимостью спасти их жизни и их близких. Если говорить о кризисе, то лучше говорить о кризисе миграционной политики, которая не занимается притоком беженцев, выявляя отсутствие продуманной и эффективной политики предоставления убежища и эффективных решений этого на национальном уровне. Кризис, безусловно, следует рассматривать в контексте отношения к беженцам и зачастую открытого, открытого для них.
Наш язык оказывает огромное влияние на то, как к беженцам в нашей стране относятся. Стигматизация, лишение общения и даже открыто враждебный язык укрепляют враждебное отношение к беженцам, усиливая наши опасения по поводу незнакомцев. Как отмечает Бауман, инопланетяне — это «большая неизвестность» (Bauman, 2016, p. 117), с которой нам приходится сталкиваться. Угрожающие метафоры, чрезвычайно выраженные термины углубляют дегуманизацию пришельцев, к которым мы легко относимся как к низшим людям, излишним людям Баумана. Целью использования сенсибилизирующего языка является не так называемая политкорректность, а прежде всего осознание того, что то, как мы говорим, определяет то, как мы думаем. Стоит использовать этот язык, свободный от стигматизации, который не дублирует дегуманизирующее языковое исчисление.
Люди не просто безработные или люди в плохом материальном положении. Материальный элемент теряет свою значимость. Зависимость от отходов жизнедеятельности человека определяет скорее ощущение бессмыслицы существования, функционирования в состоянии жизни растительности, но и веру в отсутствие самонадеянности. В неолиберализме почти всех, независимо от их компетенции или квалификации, можно считать избыточными. Все народы, исключенные средствами массовой информации, появляются в нашем сознании лишь на мгновение, когда средства массовой информации обращают наше внимание на бедствия, затрагивающие их, или другие коллективные бедствия. Немногие люди сегодня занимают судьбы тысяч беженцев, пакистанцев или индусов, работающих за плохую зарплату, оскверняя человеческое достоинство. Это случай фрагментаризации мира, о котором Ольга Токарчук упомянула в Нобелевской лекции (2020, с. 279), проявившейся в восприятии мира как несвязанных элементов. В результате купленная нами одежда не связана с нечеловеческими условиями азиатских заводов, освобождая нас от ответственности за наш выбор и положение ненужных людей. С точки зрения людей, которые считают себя ненужными, важно сформировать то, что Марта Нуссбаум описывает как сострадательное воображение (Nussbaum, 2008), то есть способность видеть себя на месте кого-то другого и видеть мир его глазами. Чтобы быть сострадательным, необходимо выйти за рамки перспективы. Меня это не касается, Потому что это просто взглядСенсибилизирует другого. Воспитание эмпатического воображения позволяет с целеустремленностью, но и активной заботой смотреть на тех, кому отказано в праве быть видимым.
Именно высокоразвитые общества должны быть особенно обеспокоены судьбой тех, кто не хочет вспоминать по разным причинам. Многие воспалительные и сложные проблемы могут и должны решаться в диалоге. Этот диалог дает нам возможность столкнуться с различностью, понять ее, войти в другую перспективу, минимизируя страхи и неоправданные страхи, которые особенно сильны у людей, которые избыточны, потому что они чувствуют себя неуверенно и неслыханно, поэтому они создают шаткое чувство самооценки, уменьшая слабых. Важно использовать язык, который является инклюзивным, понятным, инклюзивным, свободным от стигматизации и маркировки.
Уровень зрелости демократии основан на установках, связанных с социальной чувствительностью и просоциальностью, которые могут и должны специально касаться тех, кто работает на задворках, не сталкиваясь с жесткими правилами неолиберального мира по различным причинам. Важна такая помощь, которая позволяет выйти из замкнутого круга беспомощности, выработать новые схемы интерпретации мира, не основанные на негативе и фаталистических сценариях для усиления выученной беспомощности. Без изменения пессимистических когнитивных моделей невозможно изменить социальное положение людей, которые являются избыточными. Важную роль в этом процессе следует играть в систематической педагогической работе, которая формирует чувство заслуг, веру в собственные возможности, активность и приверженность. Именно сельские и городские школьные работники зачастую зависят от судьбы будущих избыточных людей, которые с самых ранних стадий образования получают или не получают определенную поддержку не только образовательную, но и эмоциональную. Особенно в сельской среде, забытой, функционирующей на полях того, что официально, предстоит проделать исключительно много работы.
Литература:
Allport, G. (1954). Природа предубеждения. Бостон: Массачусетс, Эддисон-Уэсли.
Бауман, З. (2016). Незнакомцы у наших дверейВаршава: PWN.
Bauman, Z. (2005). Жизнь, чтобы кормитьКраков: литературное издательство.
Домачовски, В. (2002). Руководство по социальной психологии. Варшава: Научное издательство PWN.
Gąsiorowska, M., Grochowska A. (2012). Концептуальная согласованность коммуникации убеждения: роль частный Теория реальности, выученная беспомощность и страсть"The Psychological Review", 55, 233-252.
Джармаковски Т. (2009). Стиль распределения, чувство контроля, пол и восприимчивость к синдрому Учиться беспомощности«Acta universitatis glacialnis foil Psychology», 13, 55-73.
Nussbaum, M.C. (2008). Ради человечества. Классическая защита реформы общего образованияВроцлав: Wydawnictwo Dolnośląska Wydawnictwo Szkoła.
Роттер Дж. (1966). Обобщенные эффекты для внутреннего и внешнего контроля воспроизводства«Психологические монографии» 80.
Селигман, М. (2002). Оптимизму можно научиться. Познань: Семья СМИ.
Судья Г. (1991). Как люди справляются с ситуациями, с которыми они не могут справиться? Изображения, которые Эд. Мирослав Кофта, Тереза Шустова, Варшава: Государственное издательство Научный.
Стоя, Г. (2014). Прекариат. Новый опасный классТу К. Чарнецкий, Варшава: PWN.
Ставишинский, Т. (2021). Что делать до конца светаВаршава: Агора.
Szpunar, M. (2022). Люди расходуются. От проигравших до предсказателей, in 'Colloquium', 4, pp. 145-163.
Токарчук, О. (2020). Чуткий рассказчик, Краков: литературное издательство.
* О, да, текст был основан на статье автора Люди расходуются. От проигравших до предсказателей, "Colloquium", 2022/4, pp. 145-163.
Выставки:
- SМы живем в мире привилегированных и непривилегированных людей, и эта человеческая дихотомия становится все яснее, разделяя людей на «необходимых и расходных людей, лишенных реальных прав, ненужных, недействительных, несуществующих». "
Люди с внутренним чувством контроля независимы, эффективны и эффективны в своей деятельности. Они более гибкие и активные, когда возникает проблема, быстро учатся и учатся на своих ошибках.
Языковые ярлыки и общие поговорки, такие как «дети и рыбы не имеют голоса», показывают, как легко лишить кого-то своей субъективности.
Неприятный, сильно стигматизирующий термин — это фраза «нелегальный иммигрант». Этот термин предполагает действия мигрантов, которые происходят вне закона и с нарушениями законов.
- Целью использования сенсибилизирующего языка является не так называемая политкорректность, а прежде всего осознание того, что то, как мы говорим, определяет то, как мы думаем.