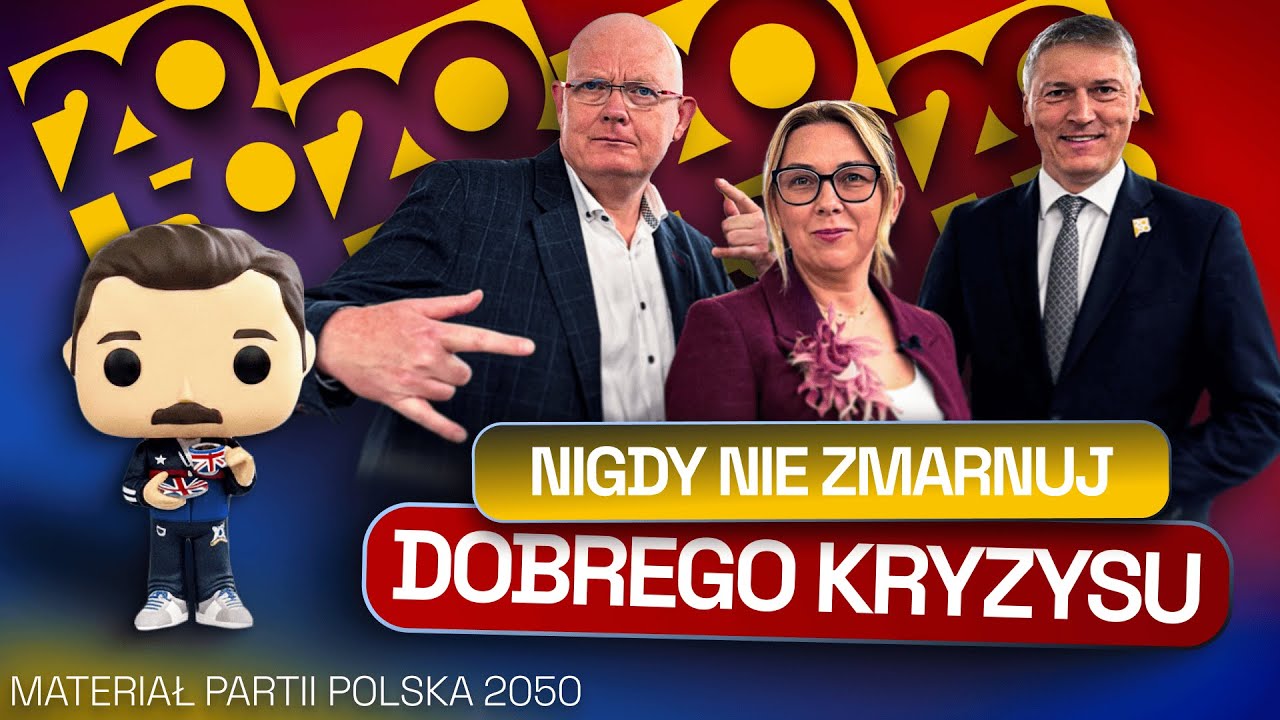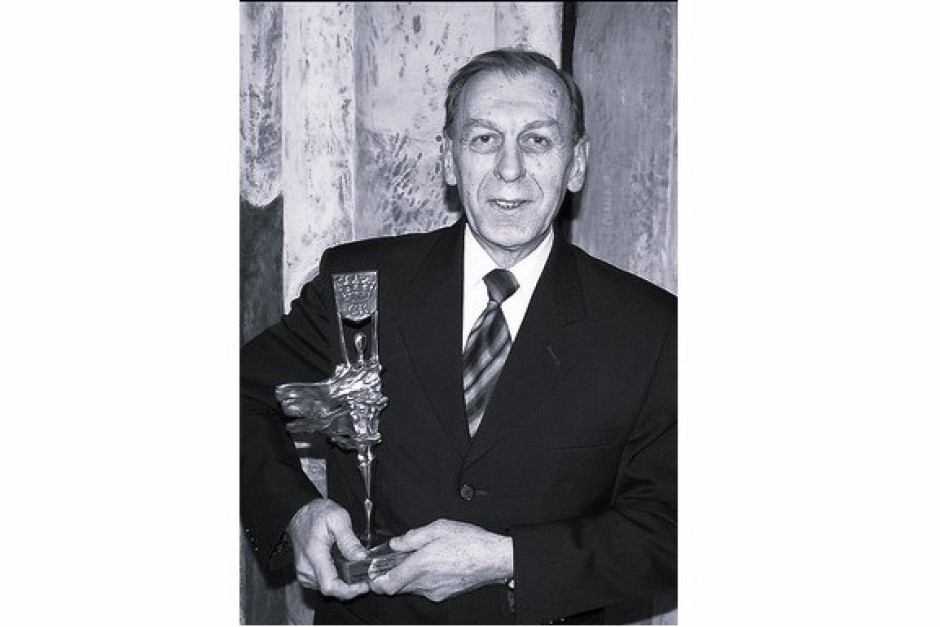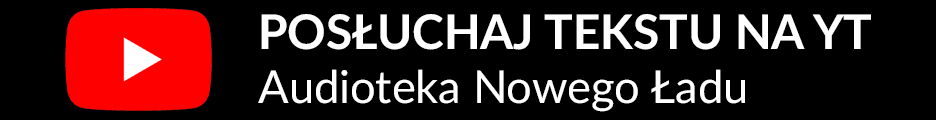
На президентских выборах 1995 года во Франции сложилась ситуация, которую сегодня можно назвать землетрясением, хотя она вызвала лишь сиюминутный комментаторский шторм. Кандидат от Национального фронта Жан-Мари Ле Пен занял четвертое место с 15%-ной поддержкой. Однако он пользовался наибольшей поддержкой среди избирателей рабочего класса. Она составила 30 %, что позволило Ле Пен обогнать кандидатов от социалистической партии, «традиционную» коммунистическую партию и, довольно сильный в этой стране, мейнстрим Троцкого. Это произошло в стране с очень сильными левыми традициями, где на протяжении десятилетий была сильна поддержка рабочего класса социалистами и коммунистами, а «антифашизм» является почти официальной идеологией. Наконец, это произошло, когда партия Ле Пена представила свою традиционную программу, тогда в малой степени касавшуюся социальных проблем рабочих, являясь скорее предложением низшим классам среднего класса и мелким собственникам (торговля, услуги, сельское хозяйство, ремесла и т. д.).
Неожиданная народная фраза
Тогда выборы следует считать поворотным моментом. С тех пор мы сталкиваемся со все более сильным поворотом рабочего класса и различных сегментов «народного класса» в сторону популистских правых. В то же время существует выражение «антисистемы» по отношению к плебейской среде — решение социальных проблем, проблем идентичности, достоинства и других. В последующие годы правый популизм не только все чаще и чаще принимал рабочих левых, рабочих и плебейских избирателей. У него также было привлекательное предложение для них, отойдя от «корвиновского» популизма для укрепления социальной коммуникации.
Сегодня различные популизмы, как правило, правые или, по крайней мере, «старомодные» (и, таким образом, отвергающие часть послания современных левых, главным образом в вопросах культурно-идентичных граждан), являются убежищем для тех социальных сред, которые когда-то были объектами левых. Проклятые люди Земли больше не маршируют под красным флагом сегодня. Флаг становится все более популистским.
По всей Европе мы видим триумфы или значительную поддержку популистов, в основном правых. Во многом это связано с голосами промышленных рабочих, более низкооплачиваемых рабочих, окружением, называемым прекариатом (близким во многих вопросах к тому, что в традиционной марксистской фразеологии называется люмпенпролетариатом). Это происходит даже в тех странах, где политический истеблишмент пытается массированными методами дисциплинировать избирателей, чтобы оттолкнуть их от «популистов», «крайне правых», «антисистемных групп» и т.д. Однако даже в тех странах, которые десятилетиями были бастионами левых, в том числе и социал-демократической, не потерявшей своего имиджа на распаде советского блока. Немногие страны, где традиционные левые защищали себя как выразители интересов и эмоций низших социальных слоев, являются теми, в которых социал-демократия взяла на себя некоторые из лозунгов популистов. Пример датской социал-демократии, которая сильно ужесточила курс на миграцию, красноречив в том, что она в основном поражает плебейские слои: ухудшение стандартов занятости, снижение доступности социальных пособий и государственных услуг, конкуренция за ограниченные товары (например, дешевое жилье), расширение резервной рабочей армии, не говоря уже о культурных различиях.
Также в посткоммунистических странах популисты сбрасывали со счетов народный гнев в ходе «трансформации» и дальнейших событий, таких как включение этих областей в мировую экономику на неоколониальных и (полу) периферийных правах. Это показывает не только классовое распределение, но и региональное распределение. В Польше большая поддержка таких групп оказывается более бедным регионам, которые отвергаются «реструктуризацией», но также изображаются как культурно отсталые. Главное здесь не в том, что либералам нравится "темный сад" и социально-экономический аспект. Это можно увидеть, например, в Чешской Республике, которая является предметом невежества со стороны польской либеральной и прогрессивной среды. Мало того, что популисты там добиваются значительной поддержки, но кроме того, лучшие результаты достигаются в некогда развитых и ныне постиндустриальных, опустошенных северных регионах, включая третий по величине город страны Остраву.
Остались без работников
Левые находятся в обратном положении, и если где-то еще побеждает или сохраняет сильное влияние, то обычно не благодаря поддержке рабочего класса и плебейской среды, а против нее. Реальный пролетариат «обменяется» на «замещающие пролетариаты»: сексуальные и этнические меньшинства, «прогрессивные» разделения среднего класса, электорат крупных городов, различные субкультуры, определяемые на основе образа жизни и потребительских установок и т.д. Это не означает укрепления левых, как это предполагалось в стратегиях, предусматривающих расширение прежней избирательной базы на новые группы и темы. Гораздо чаще левые спасают кожу (хотя обычно только половину), но в то же время прогрессирует ее распад с миром рабочих. Особенно в невыгодном положении: от национальных периферий, от «устаревших» отраслей; от профессиональных групп с более низкой заработной платой и более низким престижем, от менее образованных и менее квалифицированных, с самыми тяжелыми работами, чтобы сделать, чтобы работать в нестабильных условиях.
Это отчетливо видно в нашей части мира – в менее процветающих обществах и менее способных применять эффективные индивидуальные стратегии продвижения или экономической самообороны, и в то же время более консервативных в культурном отношении, чем западные договорные государства. Группы PiS, Fidesz, Smer и Ano гораздо чаще поддерживаются «потерянными», чем «победителями», как в экономическом, так и в классовом плане и в региональном или культурном плане. Можно почти слепо предположить, что партии такого рода будут иметь большую поддержку среди рабочих, безработных, заключенных в тюрьму, фермеров, ренцистов, в более бедных и/или «перестроенных» регионах, в Польше (Словакия и т. д.). б с более низкими доходами. И наоборот, левые все чаще представляют собой группу с поддержкой выше среднего в крупных городах, благополучных регионах, управлении, высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых специалистах, образовании, престиже, социальном капитале и богатстве в других «активах».
Революция в Яснагроде
Поскольку Ле Пен, упомянутая в самом начале, стала поворотным моментом в процессе, стоит вернуться во Францию. Также потому, что по отношению к ней трудно применить поверхностные и пропущенные объяснения того, что леволиберальные среды пытаются отнести к польским или посткоммунистической реальности. Франция не является «отсталой» страной, там нет серьезных «творческих влияний», она не была в «культурном морозильнике», она не «традиционно антилевая», нельзя сказать «не следующая». Наоборот, все было до определенного момента по левым рецептам и рекомендациям. Современный капитализм, официальный секуляризм, доктринальный антирасизм, сильные левые, открытость для иммигрантов, знаменитый культурный студенческий бунт, моральный либерализм, либертарианская поп-культура и т. д. И здесь французский рабочий массово голосовал за Ле Пен, а теперь за Ле Пен.
Но о Франции стоит упомянуть по другой причине. Недавно мы опубликовали польское издание фундаментальной диссертации о суперсекванском рабочем классе и его политической эволюции. Вернуться к работе Стефан Бо и Мишель Пиалу, первоначально выпущенные в далеком 1999 году, показывают нам корни нынешних явлений, а также их универсализм, неспособный довести проблему до «темной и консервативной» Польши или посткоммунистических реалий.
Последствия эксплуатации
Сразу скажу, имея в виду место публикации этого текста, что фраза, описанная в книге, более ответственна за материю, чем за культуру, и если здесь важны культурные факторы, то она скорее отличается от тех, которые право любит видеть в роли причинного фактора «падения цивилизации». Только на этой основе правые могут играть политическую роль, такую как иммиграция и мультикультурализм.
Динамический капитализм имеет решающее значение для разрушения «старых добрых дней». Книга Бо и Пиалу является точным описанием того, как подчеркивание прибыли от эксплуатации занятых вызывает распад рабочих сообществ, их культуры, чувства стабильности, достоинства, ценности и смысла такого образа жизни. Шаг за шагом технологические изменения в обслуживании гиперкапитализма, также обусловленные глобализацией (конкуренция со стороны японских брендов и автомобильной промышленности), служат все большему облаву наемных работников. Постоянное повышение стандартов производительности, усиление контроля, бездушные методы управления трудом, «стерилизация» рабочих мест от всех форм трудовой автономии и рабочего сообщества, вывод автомобильной компании из деятельности для местного сообщества — все это подрывает положение рабочих, не только экономическое, но и символическое, а также чисто физическое. Люди с хорошо оплачиваемыми, уважаемыми, многолетними, причинными и достойными сотрудниками известной компании становятся полуавтоматизированными, обучаемыми, дисциплинированными, отчужденными. Это не идеологический манифест, а тяжелая, конкретная социологическая работа, основанная на множестве проницательных, повторяющихся с течением времени интервью с сотрудниками, их семьями, профсоюзными активистами и т.д.
Это предполагает структурные изменения. Peugeot организует новые заводские залы, чтобы они не благоприятствовали рабочей семье и солидарности. освобождает или приостанавливает прием молодых работников. Вместо завода, производящего все, от А до Я (который имел много значений с точки зрения сотрудников, от чувства универсальности и гордости работников, через их большее количество и боевое управление производительностью, и заканчивая различными формами профессионального продвижения), большая часть производства компонентов смещается на внешние компании, и производство автомобилей происходит в точно в срок модели. Стабильных контрактов и профессиональных повышений получить все труднее, завоевывать должность квалифицированного рабочего, некогда принадлежавшего работнику «аристократии», работавшего до выхода на пенсию, имевшего хорошие заработки и престиж.
Это не просто постоянная и растущая эксплуатация. Это также является разбивкой по духу рабочей группы и связанной с ней местной общины. Когда-то работник Пежо, это звучало гордо. Это означало стабильную работу, хороший доход, социальное уважение, чувство личного достоинства и коллективную гордость. Такой человек был образцом для подражания. Дети подражали родителям, их сыновья хотели быть похожими на отцов, у них с самого начала средней школы было запланированное и должным образом гарантированное профессиональное будущее.
Восстание «офф-офф»
Профессор Малгожата Ячино во введении к польскому изданию этой книги прекрасно синтезирует этот процесс: «То, чем до сих пор гордились рабочие — солидарностью, собственной культурой, гордостью, харизматическими лидерами, упорством в сопротивлении и эффективностью, — противоречит другому образу, а именно образу жалкой, мрачной жизни и социальной печали. Личность рабочего, созданная в 1960-е годы, теряет все качества, давшие право на гордость, и становится предметом социальной фобии. Таким образом, ликвидация профессионально-технических училищ и поощрение общего образования и супружества, даже без перспективы конкретного профессионального будущего, оказались на уязвимом фоне вынужденных побегов, если не от фабричных работ, от трудовой идентичности, от «проло». По этой причине после революции 1968 года молодежь из рабочих семей пытается избавиться от всех признаков этого страха и страха перед идентичностью и эстетикой рабочей культуры. Возможно, это самое большое поражение революции 1968 года: необходимым условием эмансипации стало отрицание личности рабочего. С тех пор постоянным, надежным судьей вкусов, спасающим от стыда из-за отца в костюме на ленте или уборке офиса матери, должен был быть рынок, а не семейная культура. Хотя рынок не обещал молодым людям ничего особенного о будущем, он предложил им символы в годы триумфального неолиберализма, подтверждающие их принадлежность к миру беспрецедентного прогресса, потребления, освобождения и, казалось бы, самое большее в течение десятилетия, и сделал невидимыми их позорные истоки - происхождение из "социальных ям". Космополитические бренды одежды милостиво скрыли силой своего символического убеждения клеймо неотесанных, запутанных и агрессивных тел детей-рабочих. "
Это не просто описание реальности в Пежо в Сошо — это описание упадка индустриальной цивилизации. И тогда было только хуже, во Франции и во всем западном мире. Также здесь – польская деиндустриализация после падения Польской Народной Республики – это столько глупости, бездумности и преступности в исполнении либеральных элит, сколько присоединения к тому же процессу, который уже шел на Западе. Не по естественным причинам, а во имя очередного наступления капитала и максимизации прибыли.
Красная рейтерада
Левые не смогли найти ответы. В период, когда столица продолжала нападать на ограниченные захваты зажиточных государств, в большинстве случаев она капитулировала перед неолиберальным «духом истории», она приняла за свое повествование-пропаганду, в которой утверждала, что перемены были естественными, очевидными, неизбежными и т. Это были времена, когда левые выступали за мягкий неолиберализм в виде «третьих дорог». Это были также времена постепенного отказа от рабочего класса и поиска «заместителей пролетариата» в виде этнических или сексуальных меньшинств, субкультуры, среднего класса, неклассического восприятия женщин (как будто у уборщицы были те же проблемы и интересы, что и у бизнесвумен) и т. д. Рабочие стали неприхотливыми, старомодными, но они также рассматривались левыми как рассадник на марше к рыночно-культурному «прогрессу». Даже во Франции, где левые сохранили большую часть старого духа, росло разделение между ней и рабочими.
Книга Бо и Пиалу показывает ход этого процесса. Первоначально французский рабочий класс оставался верным левым. Она голосовала за «проверенных» политиков, за старших активистов, за тех, кто еще обращался к этой группе избирателей, за тех, кто, в отличие от остальных левых, все еще был «в поле» (рабочие общины, промышленные города и т. д.). Но таких левых было все меньше и меньше. Медиакультурное пренебрежение «роботами» становилось заложником других групп и установок, отворачивалось от униженных и сломленных и все труднее четко определяло рабочий класс.
" За последние пятнадцать лет рабочие, которые должны были быть рабочими, стали смотреть на них со смесью сострадания и печальной отставки... Можно задаться вопросом, следует ли рассматривать растущую популярность Национального фронта среди рабочих как форму горького или даже отчаянного протеста против «морализма левых». Для большинства рабочих, которые зачастую лишь временно набирались на «идею» ФН, сильной идеологической позиции нет. Напротив, поддержка, оказываемая ФН, сопровождается сомнениями и нечистой совестью, и она является результатом таких рассуждений: раз «мы» (сотрудники) такие «отсталые», «нереформируемые», такие «неудачники», а вы (лидеры, «социалисты») постоянно повторяете нам, или создаете у нас впечатление, что мы ничего не понимаем, что у наших детей нет «выносливости», не «открыты» и поэтому «мы не будем продолжать безнаказанно обманываться, мы покажем вам, что мы можем, продемонстрируем по-другому, что является нашей единственной силой, или силой численности, голосующей за Ле Пен или постоянно угрожающей это сделать». (...) Этот «реактивный» аспект голосования по Ле Пен кажется нам очень важным: он выражает глубокую социальную ненависть, все больше поглощающую рабочих; это также своего рода возмездие, хотя и горькое и не слишком славное, за то, как плохо с ними обращались в последние годы. Для работников, которые голосуют за ФН, ставка в игре - это достоинство людей, которые всю жизнь упорно трудились, чтобы заработать себе дом, воспитывать детей достойным людям, заслужить уважение к окружающей среде и т.д. Сегодня работникам грозит утрата этого достоинства, которое может показаться бесполезным людям, не имеющим контакта с рабочей средой. Причины могут быть разными: не только безработица, которая влияет на семью, рассекречивание места жительства (...), но и постоянно растущая борьба за их систему ценностей (например, дисквалификация местных традиций и «наследников» за космополитизм и смешение культур) и вопрос о традиционных гендерных ролях. ?
Смотрите также:Сцены с французских улиц могут появиться в Польше через 10-20 лет - Адам Стара, Каспер Кита
Рабочие против «толерантности»
В книге также рассматривается очень деликатный вопрос миграции и растущие антииммигрантские настроения среди рабочих для современных левых. Авторы прекрасно показывают конкретный гордианский узел этого вопроса, в том числе аспекты, которые ускользают от современных либерально-левых моралистов. С одной стороны, они указывают на то, что иммиграция является капиталистической. Во времена экономического бума именно по деловой инициативе стали привозить трудовых мигрантов из Турции и стран Магриба. В течение этого периода «основные» работники сначала продвигались в социальном плане и больше не хотели делать самую тяжелую работу. Затем, перед лицом неолиберального наступления, их положение ухудшилось, поэтому фабрика предстала не как земля обетованная, а как сожженная земля, из которой можно бежать в различные индивидуалистические стратегии выживания. Структурное ухудшение положения рабочего класса и его имиджа в средствах массовой информации заставило промышленных рабочих поверить, что о них вообще не говорят или говорят плохо, без сострадания и заботы, но большое внимание уделяется людям из этнических меньшинств и их проблемам. В свою очередь, этнические меньшинства, наряду с неолиберальными «реформами», оказались в худшем положении, чем раньше. Молодому поколению даже не предложили работу, которую получили их родители-иммигранты. Маргинализация и фрустрация, связанные с этим, привели как к многочисленным асоциальным проявлениям (по крайней мере, не выдуманным «правыми»), так и к взрыву популярности ислама в радикальном варианте, который религия стала для молодых людей с иммигрантскими семьями марксистским «опиумом народа»: «вздохом угнетенного творения, сердцем бессердечного мира, духом бездушных отношений». Это просто отняло их у большей части общества, просто работа.
Бо и Пиалу прекрасно показывают, как рабочие сообщества испытывают отвращение к иммигрантам, а не к правым. Лаицизм в противоположность исламу или современному образу жизни противостоит исламскому традиционному знакомству. Авторы книги показывают, что французские рабочие направляют в сторону иммигрантских общин остроту этих «современных» ценностей и стратегий, которые привил сам неолиберальный капитализм. Например, акцент на хорошем образовании, которое является единственным шансом избежать необходимости работать во все более бесчеловечной и эксплуататорской индустрии, приводит к критике того, что дети-мигранты занижают уровень образования, насильно и несправедливо «втягиваются» в высшие классы, привлекают непропорционально много усилий и внимания учителей, саботируют образовательные и образовательные процессы и т. д. Неолиберальная ситуация, в которой «коренные» французские рабочие семьи, «возвращенные к мальтузианству», как говорят авторы, сократили число потомков (для того, чтобы меньше детей было в состоянии содержать и воспитывать на «соответствующем» уровне), является тенденцией, противоречащей «множественной» и «горячей» семейной жизни иммигрантской общины. Кроме того, в регионе наблюдается общий спад – социальные проблемы, вызванные бедностью, с выходом из него еще одного «основного» француза (но также с лучшими ассимиляционными мигрантами) и т.д. Она продолжает, как утверждают авторы книги, «конкуренцию в использовании общественного пространства», в результате чего «коренные» французы чувствуют, что «в своих собственных кварталах они сами становятся как иммигранты».
Проповедники без верующих
У левых нет ответа. Хотя на теоретическом уровне он признает в причинной роли эти противоречия неолиберального капитализма, на уровне повседневного дискурса он не выходит за рамки причитаний о расизме, призывов к терпимости, похвалы мультикультурализма и т. д. Авторы «Возвращения к рабочему вопросу» показывают отношение рабочих к левым интеллигентам («тех, чей культурный капитал их защищает») — «кто не знает, насколько велик их страх перед будущим, всегда занимает «моралистическую» позицию, и если рассуждать в терминах соотношения сил, то считает, что иммигранты всегда по определению «слабее», в то время как большая часть рабочих болезненно переживает собственную материальную и символическую деградацию». Более того, рабочие считаются экономически, финансово и культурно «привилегированными» в отношении иммигрантов, в результате чего «любое упоминание проблем рабочего мира даже слева стало неуместным, почти покрытым табу». "
С другой стороны, пример иммиграции и отношение к ней показывает более широкую и почти универсальную закономерность, согласно которой прогрессирует разлад левых с рабочим классом. С одной стороны есть: морализируя с позиции превосходства, поспешно каталогизируя все возможные меньшинства и заботясь о них, изображая рабочих привилегированными (белыми, гетеросексуальными, мужчинами и т. д.) и в то же время отсталыми и мало эмпатичными, теоретическое признание порочности капитализма и одновременно завершая их непонимание в местном специфическом контексте плебейской жизни. С другой стороны, есть люди, уставшие от все более эксплуататорской работы, игнорируемые и маргинализированные в публичных дебатах, которые все более тщательно учитываются почти во всем (включая содержимое тарелки), живущие в разлагающихся сообществах, скорее нарушая их поучительные левые, чем, как когда-то, хвалят его.
Прямой марш!
За это время популисты протягивают руку рабочему классу — будь то социальные предложения или, по крайней мере, «понимание» их и передача достоинства, а иногда и то и другое. Кроме того, они относятся к единственным еще живым эмоциям Сообщества в мире растущего индивидуализма и социокультурной фрагментации: патриотизму, национализму, иногда религиозности. И левая сторона проблем этой группы на странице 123 предвыборной программы, но на каждом шагу она показывает, что ее приоритеты и сильнейшие эмоции касаются чего-то или кого-то совершенно другого.
Когда рабочий выбирает популистов, он слышит, что он темный, отсталый, глупый, наивный или проданный за 500+. Поэтому на следующих выборах он голосует за популистов еще охотнее. И еще более массово он осуждается людьми, с которыми его ничто по-настоящему не связывает, начиная с образа жизни, установок и культурных ценностей, и заканчивая способами заработка и социальным происхождением. Неудивительно, что если сломленная, сломленная, контролируемая и обученная рабочая сила все еще ищет надежду, активизируется политически и кому-то доверяет, она делает это под знаменем популистов. Не под красным.