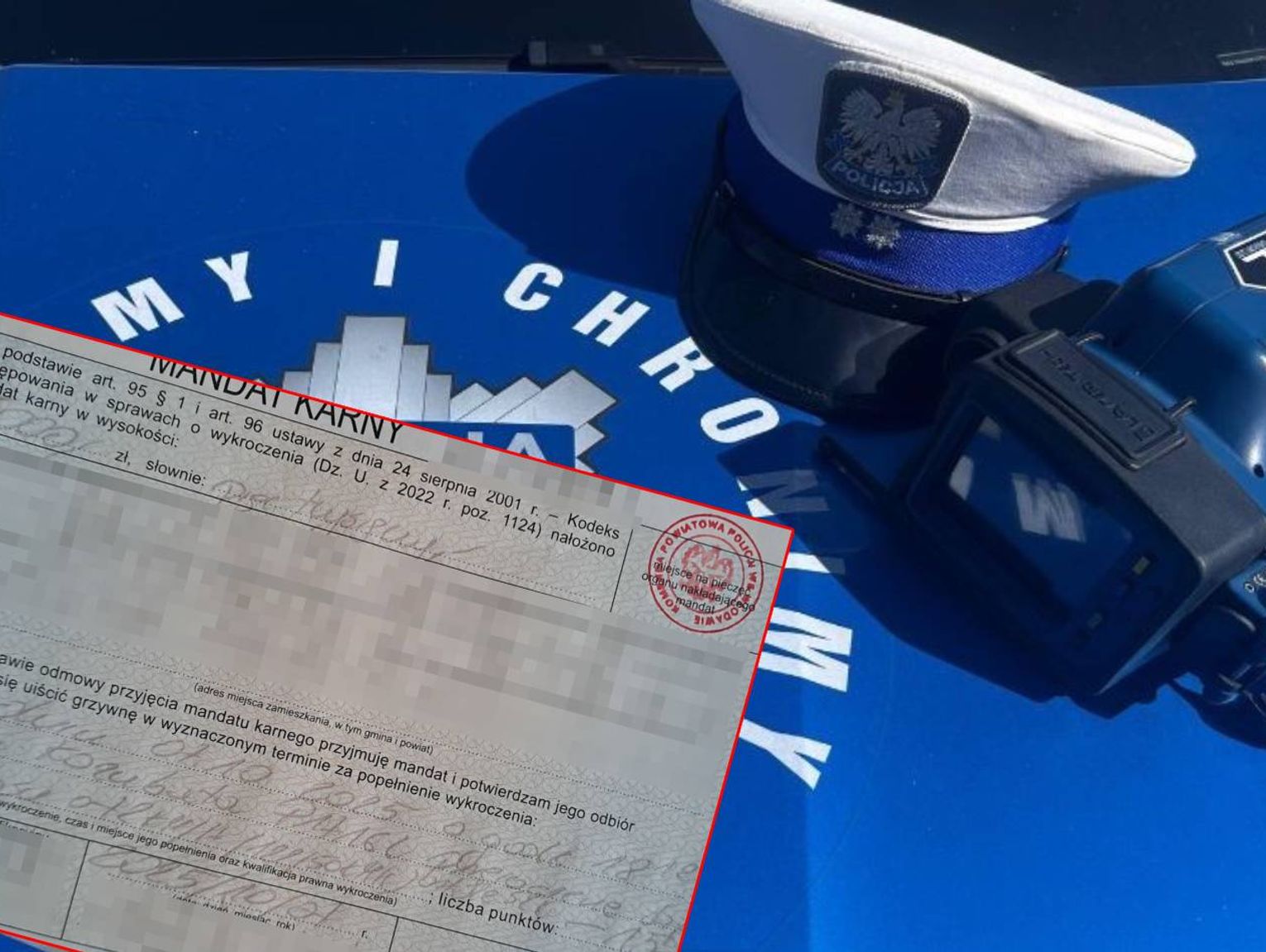Однажды я увидел на странице Колеги в Фейсбуке фотографию книг, размещенных на полу, среди которых были и тома Богуслава Волосянского. Когда я рос в 1990 году, в основном под влиянием мамы, которая является заядлым зрителем телепередач Б. Волошанского, я купил большую часть его опубликованных книг. Я читал некоторые из них, я никогда не ходил к другим, но по сей день все они находятся на одной из полок, установленных с другими. Память, которая была припомнена на фото, заставила меня догнать и прочитать забытые предметы из набора.
Для начала я дотянулся до второго тома сериала «Этот жестокий век», вышедшего в 1996 году. Он состоит из четырех глав, посвященных, соответственно, деятельности и гибели руководителей советских спецслужб от Феликса Дзержинского до Лаврентия Берии, довоенной деятельности Филби, убийству Рейнхарда Гейдриха и перелету Рудольфа Хесса в Англию. Книга была покрыта богатым фотографическим материалом и ценна для обывателя библиографией предметов, изданных в основном на английском языке в Великобритании во второй половине 20-го века — несколько работ, включенных в нее, были опубликованы со времен «Этого жестокого века», доступного польскому читателю, часто благодаря публикации самого Беложанского.
Что можно сказать об этой позиции, так это то, что она состарилась. В одних его слоях благородно, в других выявляют его недостатки. Начнем с того, что многочисленные фотографии, иллюстрирующие книгу в день повсеместного и почти всеохватывающего Интернета, уже не производят того же впечатления, что и тогда, когда Интернет был менее развит и менее популярен. В 1990 году. Однако именно из книг Волошаньского я узнал, как выглядела «суперкрепость» янки, и именно из них я лучше всего запомнил образы ключевых фигур Второй мировой войны. Несомненно, многие фотографии, как заявляет автор, заслуживают признания в этом месте.
Также стоит отметить хорошо проработанные сноски, которые аппроксимируют историю разработки и параметры различных видов оружия и биографию упомянутых в книге персонажей. В эпоху Википедии, однако, они уже не являются «окнами для эпохи», как это было в 1996 году, но по-прежнему сохраняют ценность квазиэнциклопедического развития, стоящего, несмотря на популярный характер книги, но на уровне выше по шкале достоверности, чем вышеупомянутая энциклопедия Фонда Викимедиа, при этом собирая в синтетической форме информацию, даже не включенную в учебники истории (даже академические).
Авторское повествование, динамичное и «непричастное», также стало благородно старым. Эта первая особенность делает чтение «Жестокого века» приятным, последняя очень благотворно отражается на фоне систематического вырождения (главным образом под влиянием IPN) культуры ведения исторического дискурса в современной Польше. Волошанский не насыщает свою книгу нравственными ликованиями или «возмущением», по существу избегая ценности. Его «непричастность» доходит даже до того, что он пишет о Польше как о стране не «своей», а «третьей» — точно так же, как СССР или Германский рейх.
Таким образом, также не обсуждается гротескная русофобия Волошана и антикоммунизм одержимости. Советский Союз действует там под своим именем, а не под публицистическим фильмом «Советский Союз» или «Советы». Русские описываются так же, как немцы, англичане или янки, а не как группа «монголо-калмукских насильников». Ясно, что Волошаньский написал свою книгу до того, как интеллектуальная целостность и моральный уровень польской историографии стали жертвами таких историков ПиС, как Войцех Росковский, Анджей Новак или Ян Жарин и офицеры IPN.
Эта особенность речи Волощанского стоит отметить, что автор не историк или даже ученый, а журналист, но стандарты исторической объективности придерживаются несравненно строже, чем большинство современных историков (не говоря уже об исторических журналистах), а также действия мучающего читателя, и это «правильно моральное» осуждение вещей, которые должны быть осуждены сегодня, и это китчевое «патриотическое» ликование, по крайней мере четкое отождествление с одной стороной описываемых конфликтов или с определенными участниками описываемых событий.
Напомним также, что Волошаньский не относился к политической категории «нонконформистов», имея взгляды, скорее не расходившиеся с мейнстримом 3-го польского истеблишмента «докрасцовского». Способность возвыситься над ними и ограничиться описанием самих фактов, вместо того, чтобы инструктировать и «морализовать» читателя в умной манере с точки зрения того, как эти факты следует интерпретировать и ценить, тем не менее, позитивна для автора.
Осевой исторический тезис автора «Этот жестокий век» сегодня менее благоприятен. В современной историографии нет гипотезы Волощанского о том, что «Ким» Филби был тройным агентом, английским агентом, замаскированным под советского агента в английском интервью. Она также не обнаружила, после многих лет категорического подтверждения автором, что человек, удерживаемый после войны в берлинской тюрьме Шпандау, был не настоящим Рудольфом Гесса, а двойником, замещенным в Нидерландах Гиммлером, который хотел заменить власть Гитлера — генетические исследования, проведенные в 2019 году, показали совместимость маркеров Y-хромосом заключенного и живых родственников мужского пола Р. Хесса.
Вышеупомянутые тезисы Волошаньского являются организационными осями второй и четвертой (двух самых широких) глав работы, которые должны в основном превышать ее значение сегодня. Однако, на мой взгляд, это не так. Волошаньский является источником исторических деталей и курьезов, которые, даже если они используются в качестве аргументов в поддержку его причудливых спекуляций, сохраняют самосуществующую фактическую ценность.
Кроме того, в посвященных им главах не доминируют темы Флыби, Гейдриха и Гесса: они становятся для Волошанского предлогом скорее для того, чтобы нарисовать более широкую историческую подоплеку для деятельности советских служб, борьбы в аппарате нацистской власти Германии или немецко-английской войны, при этом погибая, по сути, на фоне этих более широких аргументов. Читая 100-страничную главу о «Киме» Филби, мы забываем о нем относительно быстро следить за карательными действиями НКВД по всей Европе или за дипломатической борьбой вокруг Чехословакии 1938 года, возвращаясь к этому характеру только в конце главы.
Стоит также отметить, что, вопреки утверждениям, повторенным сегодня некоторыми позднейшими публицистами, в повествовании Волощанского о победе в войне не решаются никакие шпионы и коммандос, только сохранение государством промышленной базы, мощности и размеров производства вооружений, технических параметров производимых истребителей, обладание (или не обладание) стратегическими бомбардировщиками и т. Таким образом, не литература искажает взгляд на историю, предоставляя массу интересных фактов. Конструкция речи также предполагает, что, по крайней мере, некоторые из приведенных диалогов являются цитатами или, по крайней мере, парафразами сохранившихся транскриптов, воспоминаний или заметок.
Поэтому я бы назвал книгу Волошаньского категорией «исторических историй» — с акцентом, однако, на фактографический элемент, а не на сюжет. Лично я, читая одну книгу из фактической литературы — одну из прекрасной или популярной литературы, — классифицировал ее как «популярную литературу». Однако это литература с познавательной ценностью, похожая на романы Фредерика Форсайта и Джона Ле Карре. Как и два других, Волошанский стимулирует воображение о деятельности спецслужб и тайной дипломатии. Как и Форсайт, его журналистское образование использовалось для создания динамичной речи и сенсационного стиля, несколько напоминающего старые тома «Репортёрского экспресса».
Несмотря на то, что коммуны повторялись, по крайней мере, на некоторых исторических форумах, я бы не рекомендовал сегодняшнюю книгу Волошанского мирянину, который хочет узнать об истории 20-го века. Это правда, что сенсационный стиль и динамичный (и в хорошем смысле слова «сухой») стиль привлекает внимание, при этом обучая крутым дистанциям, таким образом оснащая аналитический подход. Стремление того же репортера к сенсационности, однако, каждый волошанин спекулировал, сегодня полностью сфальсифицированный научной историографией.
Волошаньский, с другой стороны, является довольно приятным «ответвлением» от этой научной историографии, представляя множество интересных фактов и аккуратно суммируя важные события и процессы, но не подавляя читателя весом «тяжелого» стиля и научного аппарата. Он читает Волошаньского как «Одесский акт», «Четвертый протокол» или «Охота на Красный Октябрь», за исключением того, что персонажи и истории являются подлинными в его книгах.
Поэтому это «справедливое» развлечение для тех, кто занимается «профессионально» международной политикой и собеседованиями, при этом, конечно, по спектру историко-сенсационной шпионской литературы гораздо ближе к первой. Кто-то уже сформировавшийся в культуре зрелого мышления о политике и истории, «отъезд» Волошанского, появляющийся в его речах, не должен вводить в заблуждение по отношению к «шурии», его хорошо продуманный и несексуальный нарратив обеспечит удовольствия, а описанные тайные действия и интриги будут стимулировать воображение и творчество мышления.
Рональд Ласеки
(Б. Волошан, этот жестокий век). Part Two, Warsaw 1996, p.