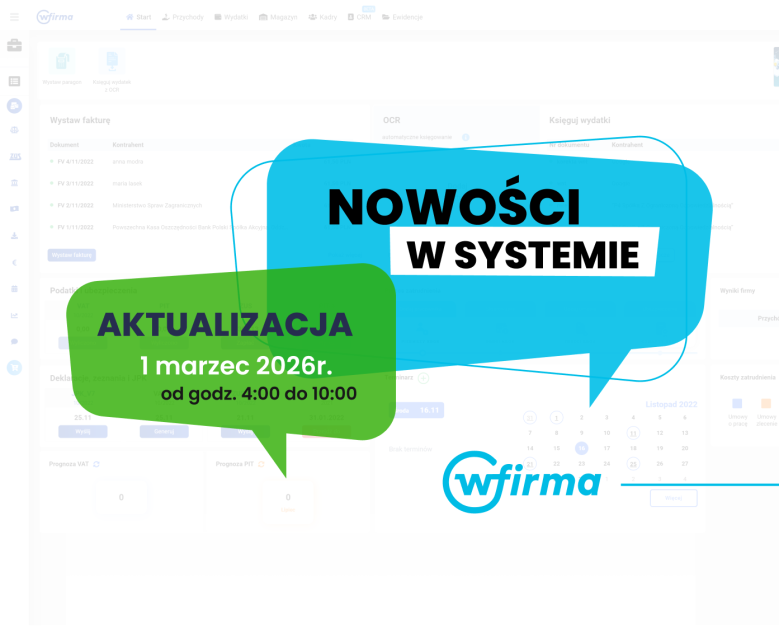Роман Дмовски, Как и ряд других политиков или публицистов, он сформулировал собственные взгляды и официальные заявления о национальном характере поляков, а также некоторых других наций, особенно тех, которые сформировали политическую реальность того времени и цивилизационное лицо Европы, тем самым повлияв более или менее на судьбу Польши. Природа поляков и цивилизационное состояние нашей страны во многом зависели от возможностей дальнейшего сохранения нашей национальной идентичности. Позже, после 1918 года, сохранению вновь обретенной независимости также угрожала идея «экспортной революции», которую использовала политика Советской России. Дмовский, однако, обращал особое внимание на немецкую угрозу, которая вытекала не только из военного преимущества этой нации, но и из её высокого уровня экономического и технического развития. Россия, с другой стороны, казалась ему менее опасной, так как в цивилизации она стояла ниже Польши и поэтому не имела той ассимиляционной силы, которую представляла Германия, в течение сотен лет поглощавшая дальнейшие районы, населенные западными славянами, а следовательно, и поляками.
Размышляя о наших западных соседях, он также говорил об отношении самих поляков, которое часто было неадекватным по отношению к нашей позиции и поэтому было предметом его озабоченности. Некоторые из заявлений лидера о намерениях также имели гораздо большее значение, выходя за рамки строго политического вопроса. Вот тот, который особенно стоит запомнить и сделать правильные выводы.
Дмовский писалМы, поляки, слышавшие нас, каждый день смотрим в нашу сторону. Аусроттен()Exterminate — сноска B.G.Для различных тонов, на которых говорили все фактически немецкие лагеря, у нас была самая большая возможность узнать дух этой эпохи. Мы также должны были понять, что ответ на этот лозунг немецкими декларациями христианской любви или масонским гуманизмом приводит к самоубийству нации, что он не демонстрирует превосходства нации, а является плащом, прикрывающим ее порочность. ".
Следует также помнить, что он не был социологом или представителем других учений, систематически занимающихся состоянием различных сообществ. Он был политиком, который не создавал компактную доктрину, составляющую замкнутое целое. В межвоенный период создавались идеологические системы, часто называемые «тотальными истинами», которые были направлены на формулирование не подлежащих обсуждению взглядов на важнейшие вопросы человеческого существования. Затем они были внедрены в индоктринированное общество. Дмовский был против такого рода гномов. Он также считает, что "политическая зрелость нации заключается не в объединении мыслей. "
Следует также иметь в виду, что его заявления часто зависят от последующих политических и социальных ситуаций. Иногда они являются симптомом стадии, а затем исчезают, не объясняя почему. Поэтому в Дмовском мы не найдем ни единой теории польского национального характера, ни точной системной модели первого постулированного, а затем и существующего польского государства. Это не означает, что нет необходимости изучать его комментарии по вышеперечисленным и другим вопросам. Напротив, пройдя тщательный анализ и используя сравнительный метод, многие из них можно узнать о фундаментальных проблемах в новейшей истории Польши.
Национальная демократия с точки зрения идеализма была не такой, как ее лидер во все времена. Важнейшие преобразования в процессе его развития происходили с разворотом влияний «писмизма», которые были видны в конце XIX века и в первые годы XX века. В нынешней идеологии Эндека многие основные вопросы были переоценены под влиянием всё более сильных католических мировоззрений. Такое развитие ситуации привело к тому, что в последние годы существования второй Республики Польша кристаллизовалось фундаменталистское видение, отстаиваемое «молодостью» польского государства. Стадии развития лагеря Дмовского, сигнализируемые здесь, конечно, не оказали влияния на восприятие и реакцию на различные свойства, приписываемые полякам, состояние Польши как государства и общества, а также связанные с этим ситуации. В ней также учитывалась клиентура партии, которая в период после революции 1905 года и проведения некоторой либерализации в России приобрела достаточно массовый характер, что сказалось на ее ментальном профиле и панорамах интересных дел, и среди них также те, которые касались мировоззрения и вытекающих из него ценностей.
Рассматривая взгляды Дмовского на поляков и Польшу, нельзя игнорировать вышеперечисленные условия.
Большая доза взглядов на поляков и их социальное, психическое и культурное состояние была включена лидером национального лагеря уже в его флагманский текст, который стал "Мысли современного полюсаВпервые напечатан в 1902 году. Правда, не только популярность.Мысли ?,Но периодическое их возобновление могло бы противоречить вышеупомянутому мнению о постановочных внешних условиях по вопросу о дальнейших взглядах, но вопрос не выглядит таким простым. Прежде всего, мнения, изложенные в этой брошюре, настолько точны, что их было бы трудно маргинализировать, не говоря уже о полном отказе. Таким образом, они функционировали годами и фактически функционировали сегодня. Автор «Думай»Он выбрал тип повествования, который явно не противоречил католическим настроениям. В результате этого текста не произошло той же участи, что и работы другого отца-основателя Эндеки, Зигмунта Балики. Это, конечно, текст, озаглавленный «Национальный эгоизм по отношению к этике» и концепции обращения с католической церковью как с «национальным институтом» или отличающий ее автономно от христианской этики «национальной этики».
Что писал Роман Дмовский о поляках «Думай»? Его мнение о поляках часто очень критично, а иногда и очень иронично. Его оценки в основном касаются их способности противостоять захватчикам на всех возможных уровнях жизни в то время в процессе безжалостной конкуренции. Это была самая распространенная ссылка на прусскую землю. Здесь следует напомнить, что во взглядах многих немецких политиков и идеологов второй половины XIX — начала XX веков поляки должны исчезнуть не только из этих районов, но и из земель дальше на восток. Например, идеолог Пауль де Лагард продвигал тезис о необходимости германизации польских земель вплоть до Буга. Другой идеолог, Йозеф Людвиг Реймер, который уже является расистом, предложил изоляцию от польского населения — граждан Второго рейха, лиц, принадлежащих к скандинавской расе, предоставляя им определенные привилегии и тем самым отчуждая их от своих ненордордских родственников и создавая тем самым условия для их более быстрой германизации. Не-нордики были вынуждены покинуть прусскую оккупационную территорию в соответствии с его проектом. Другим примером германской догитлеровской этнополитики по отношению к полякам был план взять на себя после победоносной Первой мировой войны западные районы Польского королевства, выкупить там землю и поселить там немецкое население. Поэтому перспективы выживания Польши на их землях были очень мрачными. Для того, чтобы продолжать в такой угрозе и эффективно защищаться от противоположностей, т.е. от потери земли и идентичности, модель интегрированного общества, сознательного и имеющего высокий уровень материальной цивилизации, которая была очень важным фактором в противостоянии человеку.
Представляет ли такая картина польское общество конца эпохи разделов? В одном из своих заявлений Дмовский поддержал мнение, что через 50 лет, а может быть, только через 30 лет Польша потерпит окончательное поражение в прусском разделе. Поэтому он указывал на различные недостатки своего общества и его недостатки, чем сильнее было немецкое давление.
«Наша нация, — писал он, — всегда использовала опыт, духовные ресурсы, возрастную работу других народов, преодолевших ее в цивилизации». По отношению к тому, что он взял, он дал человечеству очень мало».
А потом:
«Наша нация по материальной силе, по изобилию и богатству осталась далеко позади тех народов, которые сегодня решают в основном судьбу мира и поднятие материальных ресурсов — одна из наиболее актуальных и важных задач нашего бытия».
Это отставание от Западной Европы Дмовски объяснял системной спецификой Первой республики, которая должна была возникнуть в результате того, что дворяне вмешивались в другие социальные слои и связывали недоразвитость городов и поселков, что обычно вносило наибольший вклад в процесс развития цивилизации. Польский дворянин, как вид гражданина, освобожденный от конкуренции с другими людьми, который, с другой стороны, имеет место в городах, где развивалась торговля и различные виды предпринимательства, должен был представлять пассивный тип. Также сельское хозяйство, выращенное руками крепостного крестьянина, не требовало такой динамики в действии, как другие отрасли производства. Таким образом, Дмовски представил проблему:
Судьба среднего дворянина не зависела полностью от его способностей и качеств характера, он был настолько связан привилегиями и стандартами жизни, что его личные качества были очень мало о них: он мог быть гением и идиотом, он мог быть человеком морали Христа и злодеем, он мог быть воплощением энергии и классической немощи, в конце концов, он мог быть трусом как рыцарь, и он всегда мог жить по благородному стандарту, и он мог сохранить свое моральное положение среди дворян, потому что он был дворянином, членом семьи.
Следующий Автор «Думай» Он противопоставляет такую личную фигуру купцу, который «должен быть чем-то», чтобы эффективно вести свой бизнес, когда польскому дворянину «очень мало приходилось, и в основном было, что он хотел». Ему не нужно было драться, и он стал пассивным. Его особенности взяли на себя формулирование в XIX веке как отдельного слоя социального интеллекта, по Дмовскому, также характеризующегося пассивностью. Польша, как считал руководитель направления, пала, "потому что она сорвалась в развитии. "
Слова жесткой критики руководящих слоев польской жизни часто повторяются на страницах «Думай». Их автор также рисует еще один профиль человека, способного бороться. и «Любое расширение». Поэтому он стоит на своей стороне, иронизируя по поводу национальных черт, которые он отстаивает. В его высказываниях мы находим даже слова положительного интереса к прусскому менталитету, указывающие на то, что он хорошо служит достижению успеха в политике, где каждый обычно воюет со всеми. Дмовский далёк от апофеозирования таких правил, которые, например, выдвинул ведущий идеолог украинского национализма Дмитрий Донков, но он по временам реалист. Он чувствовал, что беспощадная конкуренция является фактом, и ждать, чтобы изменить ситуацию в этом отношении, было просто не о чем. Дмовский, несомненно, впечатлен такими странами, как Франция и, прежде всего, Англия. Напротив, Испания, которая пала с течением 19-го века, вызывает явное пренебрежение, хотя это католическая страна, как Польша. Его девиз, который он проповедует на страницах «Думай» необходимо иметь экспансивные особенности, не просто сопротивляясь истреблению и апеллируя к моральным ценностям, рассматриваясь как почти исключительная основа действия и повод для гордости как свидетельство высокой гуманистической культуры.. Дмовски категорически заявил:
Нравственная сила нации — не ее беззащитность, ее невинность, а ее жажда широкой жизни, ее желание приумножать национальные достижения и влияние и ее готовность жертвовать для достижения национальных целей. С другой стороны, «Наша национальная мораль, с некоторым бесплодным сентиментализмом, сегодня в основном связана с отсутствием полной активной любви к нашей родине, а политические взгляды нашего просвещенного генерала экстраординарны, отличаются от политики других наций тем, что им не хватает основы любой здоровой политики, а именно национального инстинкта самосохранения. Мы нация с искаженным образом политического мышления. Нация медленно создавала образ мышления, способствуя окончательному отречению от исторической роли. Немощь он называл благородством, трусость — благоразумием... Он начал жить в мире моральных заблуждений, и, приспособившись к этому бытию, даже начал притуплять все здоровые тенденции, все проявления инстинкта самосохранения».
Такие отражения хорошо видны в «Думай» и другие ранние тексты Дмовского рубежа XIX—XX веков. Как видите, он дает довольно плохую оценку политическому смыслу польских руководящих слоев этого периода. В то же время она выражает надежду на восстановление нашего общества, и это связано с продвижением особенно крестьян, которые должны изменить свой мысленный образ и расширить охват национального сознания. Для лидера индекса характерны особенности поляков от прусской оккупации в роли модели, где постоянная борьба с Германией за сохранение своих позиций создает динамичные, практические и продуктивные установки. С другой стороны, русский раздел, в котором борьба с Польшей была не так беспощадна, как в Пруссии, сохраняет прежний менталитет, что облегчает обществу пребывание в традиционном бездействии, хотя и происходят изменения, как он отметил.
Дмовски все время поощряет «Думай» ""Способность поляков воевать" (...) потому что храбрые нации полезны для борьбы, только в борьбе они вырастают", (...) "бросают сферу своих действий. "Критикует менталитет польского интеллигента с рубежа веков, а также культурно близкие земные сферы. В этих слоях он видит набор признаков, которые противоречат динамике развития. Он утверждает, что и старые черты, и атмосфера катастрофы после январского восстания сделали ситуацию хуже, усилив «Пассивность нашего характераВсе в порядке. Одним из эффектов, как он выразился, является «Переход от действия к созерцанию» и возрастающие черты вопреки активным установкам, обеспечивающие успех не только в личной, но и в национальной жизни. Дмовский также отмечает распространение в верхних слоях общества. «Интеллектуализм», «эстетизм» и «этизм»И хотя он не говорит об этом полностью, он явно отвергает эти симптомы духовной жизни поляков, поскольку они не представляют собой прочного фона для жесткой борьбы за исчезающее существование. Внутренняя жизнь притягивается к нему как альтернатива внешней жизни, где человек должен прежде всего продолжать жить. «получение мира и постоянный рост«Интеллектуальные» установки противопоставляются «активным» установкам. На фоне развитых западных стран он оценивает польскую ситуацию как анахроничную. Она не может избежать даже насмешек. Вот его слова:
"Поэтому в духовной сфере жизни мы имеем признаки трансформированного общества, политическая роль которого уже сыграна, которое только в области отрешенного духовного творения может служить человечеству, самоспособному жить только мыслью. Однако мы не очень цивилизованны, и наше духовное творение особенно высоко. И наша общность, несмотря на свои наклонности, вовсе не превосходит другие народы, ни с уровнем ума, ни с хорошим вкусом. При всем уважении можно сказать, что нигде нет столько умных интеллектуалов и столько безвкусной эстетики. Мы, ни в какой социальной сфере, не предопределены, а наоборот, высшие, даже самые полированные сферы нашей нации следует считать нецивилизованными».
Также критикуемые Дмовским «интеллектуализм» и «эстетизм» должны отвлечь руководящие слои от повседневной борьбы за существование, а «этизм» приводит к непониманию механизмов, управляющих политикой, что имеет плохие последствия.
Это автор «Думай» Недвусмысленно назначает полякам "неспособность думать о польских делах так же, как они думают о других своих странах.Все в порядке. Это утверждение об отсутствии реализма и переводе «польского» в идеальную сферу, что влечет за собой невозможность правильно оценить угрозы. Выражением этого является, среди прочего, вера в возможность устранения экспансивных устремлений из политики и неконфликтное сохранение наций в пределах их исторических границ. Такое мышление лидер мышления рассматривает как выражение отсутствия инстинкта самосохранения. Как он пишет, и это за годы до Первой мировой войны, это выражается, например, в отсутствии такой польской политики в Галиции, которая способствовала бы эффективной защите польского населения там от развивающегося украинского национализма. Эта халатность приписывается видимой космополитической части польской разведки, которая ставит общечеловеческие ценности выше национальных. Дмовский протестовал против таких установок, рассматривая их не как выражение политической незрелости, а как глубоко укоренившуюся черту антинационального характера. Он также считает, что такие люди присутствуют во всех трех профессиях и во всех политических ориентации. Он называл их даже врагвнутренний ?С кем нет компромисса.
Этот вид поляков по имени и языку, как он писал, многократно вырос в густонаселенный период падения национального духа, и даже на короткое время царствовала быстрая ассимиляция молодого поколения. Он не понимает, что в международных отношениях существует обширная сфера дел, в которой нет ни правильного, ни неправильного. Правящее правило — это только конкуренция отдельных интересов, и занятие позиции тогда не может быть результатом. Чувство справедливостино Чувство солидарности с одной из воюющих сторон ?.
Здесь можно увидеть функционирование двух этических понятий: «национальная этика» и «христианская этика». «Польша», как называл их Дмовский, не приемлет такого положения дел, которое делает их бесполезными для польского дела и должно исчезнуть как вредный элемент.
Оставшись с высказываниями, исходящими из начальной фазы деятельности пришествия, необходимо добавить, что Дмовский выделяет в польском обществе несколько видов мышления о политике. Сэм представляет национализм, который одновременно и называет патриотизмом. Это означает активное отношение, которое должно включать все стороны существования нации. Не ограничиваясь «борьбой за свободу». Он указывает, что только один фактор в национальной жизни имеет гораздо больше аспектов. По его словам, широкий польский генерал недостаточно это понимает. В контексте аналогичных вопросов лидер направления также выделяет категорию «Старые патриоты», В настоящее время она более явно подвержена новой тенденции в польской политике, которая стала национализмом в конце 19-го века. Это направление понимает гораздо большую роль национальной солидарности, чем бывшие формирования независимости. Поэтому она больше реагирует на условия ожесточённой борьбы за интересы нации. Если Дмовский не воспринимает этих «стародавних патриотов» как заявленных противников, то ему больше всего чужих. "Космополиты". По его словам, они просто не в состоянии выполнить требования национальной солидарности и условий ожесточённой борьбы за интересы нации, понимаемой не как совокупность свободных человеческих особей, а как модельно-компактный организм. Конечно, это не ценят и социалисты, даже в том, что Польша заинтересована в восстановлении независимости. Они не отвечают основным условиям, которые Дмовский поставил полякам для того, чтобы они соответствовали политическому и цивилизационному положению Польши. Свойства поляков того времени, судя по всему, недостаточно приспособлены к задачам эффективного противодействия препятствиям, угрожающим Польше в конце эпохи разделов. По его словам, «мир все меньше и меньше места для слабых и беспомощных» и «все меньше внимания уделяется тем, кто пассивно переносит вред». Дмовский также рассматривает существующую среди поляков тенденцию относиться к «его физической и моральной слабости» как к добродетели, являющейся выражением благородных качеств характера. Такое отношение считается поклонением вымыслу и просто ложным. На рубеже XIX—XX веков, как уже отмечалось выше, он возлагает надежды на социальные перемены, т. е. выход на публику представителей народных слоев и повышение их национального сознания и идеологической работы собственного лагеря. Доминирующий тон в его политических публикациях того времени может лучше всего выразить это предложение:
«Мы должны жить, расти, развивать деятельность во всех областях, мы должны стремиться стать сильной, непобедимой нацией... мы обязаны жить и выходить. "
Как известно, подобные правила и значения не доминировали в пределах эндекции на протяжении всей её работы. Спустя годы после революции 1905 года, принесшей в России некоторую либерализацию, и в рамках неё возможность избрания польских представителей на выборах в российский парламент — Думу, привело к значительному численному развитию лагеря, в котором до сих пор задавали тон такие люди, как Поплавский, Балицкий и Дмовский. Эта среда перестала быть просто элитным кругом с определенной политической философией. Сам Дмовский тогда заметил, что налицо размытость национализма «Обзора всей Польши», которую поляки не понимали. Слушание Паранауки о пере Сигизмунда Балики «Национальный эгоизм по отношению к этике» было в последний раз опубликовано в печати в 1916 году. Однако спустя одиннадцать лет была опубликована программная брошюра «Церковь, нация и государство», где лидер национального лагеря объявил о широком открытии своего окружения для католических ценностей.
Профессор Роман Вапинский назвал эту тенденцию «процессом сожжения национализма с католицизмом в одну цельную идею в мысли о национальной демократии», и автор этого текста представил ее в сравнительном выражении в книге. "Дилематы польского национализма: возвращение к традициям или восстановление национального духаВсе в порядке. "
Здесь следует подчеркнуть, что подобные идеологические образования не являлись собственностью польского национального лагеря. Они развивались в ряде западноевропейских стран, а межвоенные годы многие политологи и историки иногда называют периодом «эволюции» или даже «антилиберальной революции». Столкнувшись с угрозами со стороны крайне левых и после опыта большевистской революции в России, Венгрии и отчасти в Германии, либеральная демократия казалась недостаточной для эффективного удержания сил, враждебных нынешнему порядку.
Анализируя последующие тексты Дмовского, легко заметить, что с годами исчезают жалобы и по крайней мере иронический тон, относящийся к «польской пассивности», и поощряются боевые и оккупационные наступательные отношения в личной и коллективной жизни. Связанный с католическими ценностями, национализм теперь часто называют «национальной идеей», и «националистический» заменяет «националистический» в различных высказываниях. Также используется понятие «христианский национализм», со временем в эндеке и национал-радикальной идеологии всё более заметно влияние томистской философии. С другой стороны, конфликт бывшего национализма с либерализмом теперь получает поддержку от отношения католицизма к последнему направлению. Давайте вспомним, что либерализм в Церкви назывался «грехом», внешнее проявление которого стало, в том числе, брошюрой, озаглавленной «Господь».. «Либеризм — это грех», перо одного из видных испанских священнослужителей о. Феликса Сарда и Сальвани. Такие изменения также привели к росту населения в 1930-х годах. В XX веке молодое увлечение постепенно становилось всё более неохотным к итальянскому фашизму, идеологи которого ссылались на авторитет философии Гегеля, вопреки духу католического персонализма. В 1931 году анонимный публицист, подписавший псевдоним, был очень кратким и точным. Альтикос В журнале Szczerbiec.
Первоначально Англия, изображаемая Дмовски как образец для подражания, также исчезает в этой роли из его заявлений. Без сомнения, большой экономический кризис, разразившийся в конце 1920-х и 1930-х годов, также оказал большое влияние на эту ситуацию. Ведь это подорвало престиж развитых западных стран. Считалось даже, что «капитализм заканчивается. Речь шла только о том, что после капитализма». В 1931 году она также появилась в энциклике. Quadragessimo anno Понятие корпоративизма, которое чаще всего использовалось в Португалии профессором экономики Салазаром. В 1934 году Адам Добошинский опубликовал книгу под названием «Национальная экономика», которая включала его собственный проект экономической системы для Польши. Там он подверг сомнению целиком индустриализм и капитализм, создав условия для численного развития пролетариата класса, восприимчивого к социализму, коммунизму и материализму. В то же время в этой политической среде распространилась идея нового Средневековья, определённая Миколаем Бирдиаевым в книге «Новое Средневековье». Он был переведен на польский язык одним из национальных активистов Марианом Рейттом. Это было типовое видение христианской цивилизации дореформационного периода, основные ценности которого предлагалось продолжать в противовес Просвещению, XIX веку как эпохе и в целом почти современности. И Добошинский, и Бирджаев были противниками этих культурных идеалов, которые лежали в основе ранее восхищенной имперской Англии Дмовского или наблюдаемой с интересом Пруссии. Теперь оказалось, что капиталистическую «охоту на прибыль», как говорил Добошинский, сильно заподозрили с моральной точки зрения. Он также заявил, что в обозримом будущем в Польше будет ликвидирована крупная промышленность, а рабочего заменит мелкий хозяин, владелец небольшой мастерской о менталитете хозяина по определению враждебный понятиям крайне левых. Такие мастерские также станут основой производственной системы. Таким образом, исчезнут великие капиталисты, и угрожающее свержение установившегося классового конфликта будет предотвращено навсегда. Аналогичные идеи в национальном лагере пропагандировал и брошюра Войцеха Залесского «Польша без пролетариата». Это изменило бы не только классовое устройство, но и моральный климат в обществе. Однако не рассматривалось, даст ли такая экономическая система Польше достаточную силу, столь необходимую для противостояния спектру конфронтации с могущественными соседями.
В такой атмосфере уже немыслимо, как воспитательный идеал, и рекомендуемая модель была динамичной, способной бороться с самим принципом и двигаться вперед любой ценой человек, чье видение было распространено много лет назад Дмовским. В то же время, что следует подчеркнуть, различные молодые публицисты в своих заявлениях четко указывали на то, что экономические вопросы были последними, которые привлекали внимание социальных сообществ, из которых они вышли. Об этом писал в своей брошюре «В условиях экономических проблем» один из ведущих деятелей поколения «молодых» эндетиков Здзислав Шталь, а журналист Кароль Стефан Фриц с первых страниц «Национальной мысли» похвалил «идеал цивилизации в польском дворе», чтобы положиться на спокойствие и освободиться от напряжённости жизни. Подобные заявления были многочисленны в публикациях Эндека 1930-х годов, и можно даже сказать, что они придавали там тон. На полях были редкие голоса, такие как профессор Роман Рыбарский, экономист и автор многочисленных книг в этой области, которые иронизировали о национальной «романтической бедности», которой поклонялись Адам Добошинский и его подобные идеологи публицистов и партийных активистов.
То, что было так важно в начале 20-го века, например, для Станислава Брзозовского, который по-другому, чем Дмовский, но также очень категорично поднимал проблему польской отсталости и вытекающих из этого угроз Польше, исчезло из карт изданий Эндека. В сочинениях, созданных в конце жизни, Дмовский больше не принимал критики психологии дворянства, будь то прежнее или современное землевладение. Он также не рассматривал проблему культурного продвижения польских масс.
На такое изменение его высказываний об этнических ценностях поляков повлияли, конечно, не только мировоззренческие предпочтения, но и внешние условия. После восстановления польского государства возникли новые проблемы и новые ситуации. Вторая республика также была страной, которая не была единой в национальном плане. Поляки там составляли всего около 63% граждан. Однако этот факт не был исчерпывающим. Существуют огромные культурные различия, порождающие различные конфликтующие интересы. Под разделами еще не было ясно, как общество может функционировать на практике в своем собственном независимом государстве. Многие социальные и политические проблемы рассматривались с другой точки зрения. Поэтому общая критика очевидной отсталости во многих сферах жизни была по существу актуальной и полезной, но после обретения независимости были вызваны новые политические, социальные, культурные и экономические проблемы. Мир тоже был другим.
Во-первых, даже само польское население не было однородным с точки зрения национального сознания. Адам Добошинский, упоминавшийся ранее, писал о состоянии вещей, существовавшем в начале Второй республики, заявил: «Польское население было ещё совершенно бесформенным в то время, когда национальное сознание охватывало максимум треть людей, говорящих по-польски (...) в 1918 году большая часть рабочих и большинство крестьян не осознавали своей принадлежности к национальной общине. Он продолжал подчеркивать роль восстановленной независимости, что в этом отношении вызвало большие изменения в желаемом направлении, но сожалел, что даже после Второй мировой войны «мы все еще сталкиваемся с чрезвычайно важной задачей распространения нации на всех людей, говорящих по-польски». Он также указал, что оккупация и уничтожение Германии, которая объединила общество под общим знаменем, способствовали национализации польских масс.
Подобные рассказы можно найти и во многих других текстах того времени и словесных высказываниях очевидцев эпохи, в которой создавались и действовали эндеция и сам Дмовский. Таким образом, картина не была построена. Его дополняли наблюдения исследователей отношений в польской деревне. Например, Александр Свентоховский в своей книге «История польских крестьян», вышедшей в 1928 году, высказал сокрушительную критику жителей польской деревни, исключив только прусскую оккупацию. Он отказывал большинству польских крестьян в базовых гражданских ценностях и даже в обычной честности в повседневной жизни не только общественной, но и семейной.
Крестьяне из бывшей прусской оккупации Свентоховского писали: «Они вошли в воскрешённую Польшу социально и экономически зрелыми, умственно умными, морально чище». С галисийскими крестьянами обращались гораздо хуже. Они должны были быть ненасытными мародерами, готовыми к такому убийству хозяев земли по закону, который они совершили восемьдесят лет назад. Конечно, он имел в виду галисийскую резню.
За такое положение вещей автор «Истории польских крестьян» винил, конечно, бывшую польскую знать и особенно негативную социальную систему Первой республики. Однако с точки зрения политики и состояния возродившегося польского государства имело значение только нынешнее государство первой половины XX века и жесткие требования тогдашней политики. Тем не менее, в годы Второй республики не было недостатка в досудебных апологетах отношений в Польше, о чем свидетельствуют обновленные книги, например. Антоний Чолоневский «Дух истории Польши» и Артур Горский «Ку, почему Польша ушла». Они также находят своих читателей в нашей стране после 1989 года!
Пессимистические сигналы, содержащиеся в заявлениях Свентоховского, не стали исключением. Аналогичные черты крестьянского слоя отмечали и другие, например, Мельхиор Ванькович, Стефан Жеромский и различные политики, дневники и люди пера. Современный исследователь сознания польских крестьян Марцин Вичмановский пишет, что в конце эпохи разделов было «широкое национальное безразличие крестьян». Крестьяне не знали национальных традиций и национальных символов. В своем дневнике Ян Сломка упомянул безразличие национальных польских крестьян — мэра Галиции, а Винсент Витос даже предположил, что крестьяне «боялись Польши, полагая, что польская дама вернется... и... благородный плен».
Таким образом, образ нашего общества в начале восстановления независимости выглядел плохо, и государство, основанное на принципах, определенных Конституцией 1921 года, не могло нормально функционировать. Роль исполнительной власти в соответствии с Основным законом была очень маленькой по отношению к полномочиям парламента, и особенно Сейма, поскольку парламентская палата была более привилегированной, чем сенат. Тот факт, что правительство должно было иметь доверие парламента, а также быть политически подотчетным ему, уменьшил роль казни в режиме Второй республики. Более того, именно сейм считался выразителем воли нации, что заставляло его пользоваться значительным законодательством. Мало того, что парламент обладал большой властью, но парламент, имея особое положение, и две палаты были не равны. Ведь именно спикер Сейма председательствовал в Национальном собрании, а также сменил президента, когда на его месте появилась вакансия. Часто подвергавшийся нападкам со стороны левого сената, он не имел законодательной инициативы, не имел функции контроля над правительством, не мог просто навязывать поправки к законам, принятым сеймом, но даже они могли быть очень легко отклонены. Правительства часто менялись, что также способствовало инерции и вызывало негативное отношение общества к парламенту, а также к исполнению. Партийные фракции столкнулись, парализовав управление государственным аппаратом. Такой ход событий вызвал такой же сильный вкус в кругу маршала Пилсудского, как и в политической среде Романа Дмовского. Там наблюдения за механизмом управления страной, как, например, Вторая республика, сопровождались размышлениями о состоянии самих поляков и их душевных предрасположенностях. Об этом свидетельствуют приведенные здесь высказывания лидера национального лагеря и другие заявления, в том числе критика недостатков различных социальных кругов в Польше и указание на их недостатки по сравнению с западными обществами, где должна была существовать культурная почва, позволившая достаточно эффективно функционировать парламентской демократии. Во второй республике, по словам Дмовского, такой почвы не было. Он жаловался на массовое плавание в последнее время на вершине польской политической жизни "сырых продуктов", дезорганизующих государство.
Очевидно, что Роман Дмовский, как политический лидер и икона национального лагеря, не мог так открыто и резко сформулировать свои суды разных социальных слоев, как это сделал Александр Свентоховский. Нынешняя политика всегда имеет значение в пользу общественного мнения, и в частности самого многочисленного слоя в Польше того времени, который был крестьянином. В то время как эндектические и даже национал-радикальные идеологи в 1930-е годы думали о сокращении класса пролетариата, с крестьянским классом дело обстояло иначе. Более правая часть народного движения, в конце концов, рассматривалась эндекийскими политиками как потенциальный союзник, хотя, как мы знаем, на практике проблема выглядела не так просто. Мнения о крестьянах, высказанные светилами Эндека, не могли быть столь категоричны, как у Свентоховского. Несмотря на это, читая сочинения Дмовского и учитывая характер его критики различных социальных кругов Второй республики, легко понять, что происходило. В то время как прогресс в национальном сознании и наслаждении польскими крестьянами мог быть оптимистичным в конце эпохи разделов, после 1918 года этого было недостаточно. Речь шла также о гражданстве, достаточном уровне цивилизации и организационных и производственных возможностях, которые могли бы в достаточной мере поддерживать эффективность собственного государства.
20-я межвоенная годовщина, вызвавшая кризис либеральной демократии, а также великий экономический кризис 1929—1933 годов, принесла новые проблемы политикам и идеологам. Дисфункция, основанная на мартовской системе республики, стала импульсом для новых мыслей и попыток активно действовать для улучшения ситуации. В институциональной сфере проект Лагеря Великой Польши – организации, которая должна была противопоставить Польше собственное видение не только либеральной демократии и конечно левых, но и власти в стране санитарии на несколько месяцев, и вывести на сцену активной политики новые элементы, а именно «сознательные силы нации».
В одной из программных брошюр OWP по «Правительственному вопросу» Дмовский утверждал, что:
"(...) система представительства в том виде, в каком достигла Европа, где правительства покидают парламент и через парламент в любое время опровергаются, становится все менее и менее критичной. Управление политикой государства во всей ее полноте и в отдельных его отделах отдается некомпетентным людям, вся квалификация которых — демагогия или ловкость в интригах, которые все равно, что им доверено — торговля и промышленность, образование или флот, если они становятся министрами; в моменты, наиболее важные для государства, отсутствие одного голоса вызвано кризисом и государство остается на более короткое или более длительное время без правительства; после разрешения кризиса приходит новое правительство, которое в той или иной степени внезапно опрокидывает то, что сделал предыдущий.
Глядя на ход событий и связанные с ним идеологические высказывания, исходящие из пера Дмовского и других публицистов его лагеря, нельзя не заметить, что очень четкая декларация новосозданной ОВП на стороне католического мировоззрения и намерение создать в Польше религиозное государство, как открыто провозглашала программная брошюра «Церковь, нация и государство», оказала весьма существенное влияние на стилизованность многих высказываний. В то время поколение так называемых «молодых» энтезисов проявило себя экстенсивно, иным духом, отдельным от доминирующих в этом лагере в начале XX века влияний позитивизма. Определенные формулировки уже были невозможны, и даже старые пытались промолчать. Согласно докладу Клавдия Храбыка, бывшего эндецкого активиста и автора докторской диссертации под названием «Идеология Всепольского обозрения» (1895–1905), Дмовский категорически возражал против его публикации в печати, мотивируя это опасениями вызвать некоторое нежелание у многих польских католиков. Работа была опубликована только тогда, когда её автор находился в составе Союза молодых националистов бывшей фракции Эндека, которая перешла на позицию сотрудничества с санитарией. Прежние показные похвалы имперских государств вроде Англии или даже отчасти и Пруссии не перекликались с климатом «нового средневековья» и другими идеями фундаменталистского характера. А протестантизм, сыгравший в сознании Дмовского и вдохновение для экономического развития, а именно материальную мощь ведущих наций, теперь рассматривается прежде всего как нравственно сомнительное явление, являющееся причиной эгоизма в международных отношениях в ущерб католическим нациям, и такими были поляки. Дмовский, отождествляя себя с ними, конечно, выступает за католицизм. Эта религия не является, как он писал в программной брошюре OWP под названием «Церковь, нация и государство», «добавлением к польскости (...) но она по своей сути». В дополнение к другой ситуации, которая произошла в Польше, которая была независимой по сравнению с периодом оккупации, когда самой важной задачей, как сказал Дмовский, было «сохранение нации», было также очень важно изменить политический и культурный климат в Европе. Эта «антилиберальная революция» была осуществлена во многих странах. Тогда же было написано о сумерках идеалов 19 века и возникновении эпохи «инстинкта и воли». Фашизм появился в Италии, а в Германии — национал-социализм и многие последующие движения в других странах. Вышеупомянутая «антилиберальная революция» стала принимать в Польше традиционно-католический характер. Процесс трансформации в этом направлении осуществлялся в конце, а затем и после 1934 года в его расколотых группах.
Если профессор Кшиштоф Кавалец, автор книги, посвященной политической деятельности Романа Дмовского, прав, утверждая, что в первые годы деятельности Всепольского лагеря его политические идеи находились в рамках тогдашней «политкорректности», то есть система парламентской демократии была принята за нечто очевидное, то в межвоенное 20-летие дело обстояло иначе. Не только изменения политического климата того времени, но и наблюдение за условиями в стране предлагали новые решения проектов, коррелировавших с взглядами на состояние поляков и Польши как социально-политического организма. Среди высказываний Дмовского 1920—1930-х годов уже нет такой критики польского дворянства, как адинамичный и пассивный слой, который должен был вытекать из основы его культуры и того факта, что он доминировал над другими социальными слоями, в частности бюргерством и доведением крестьянства до состояния цивилизационного коллапса. Нет более явного восторга от ранее восхищенной Англии и всего Запада. Именно здесь зародился капитализм, который под воздействием великого экономического кризиса 1929–1933 годов, казалось, в настоящее время даже распадается. Западные страны, до сих пор процветающие, уже рассматриваются лидером национальной демократии как «компания по эксплуатации других народов», и основанием для такой критики становится гораздо более идеалистический по своей сути способ видения мира, чем тот, который характеризовал автор «Мыслей современного поляка» в то время, когда он писал эту брошюру в самом начале 20-го века. В одном из своих текстов, созданных в годы II Республики, лидер национального лагеря подчеркивает, что польский национальный смысл основан на иных основаниях гораздо более альтруистического характера, чем в крупных западных странах. Выводы показывают, что эта позиция не только благороднее, но и сложнее достижима и важнее и доступна не всем. В результате в Дмовском появляется понятие «нация в нравственном смысле», избранная категория с высокими ценностями. Это было бы противоположно тому, что он назвал «сырой пищей», слишком часто оказывая разрушительное воздействие на правительства в рамках парламентской системы в Польше. В высказываниях Дмовского 1920-х годов и на завершающей стадии его общественной деятельности уже присутствует идеалистический элемент. Оно относится к религиозным чувствам и характеризуется явным антиматериализмом. Он также подчеркивает:
У нас есть некоторые великие ценности, которые другие народы (западные - Б.Г.) могли бы использовать сегодня и спасли их от многих опасностей, и которые они не развили в наших персонажах, или которые они устранили в прошлом.
Дмовски пишет:
«Нашему национальному чувству, нашему отношению к нашей родине не угрожает такое одностороннее искажение, какое мы находим во многих западных странах. Наша родина не будет, прежде всего, великим материальным благом; мы, как нация, не поймем себя как компании, эксплуатирующие другие нации; мы не увидим обязанностей нашей родины только снаружи, в борьбе с чужими, но не менее внутренне, в бдительности блага целого, в работе и в усилиях, посвященных исцелению ее жизни и выведению ее на все более высокий уровень».
Таким образом, у нас есть концепция элиты, основанная на вере в высокие моральные и этические ценности, по крайней мере, некоторых польских элит. В заявлениях с заключительного этапа идеологической работы Дмовского уже не видно радости освобождения народных масс и даже прогрессивного проникновения в них национального сознания. Также нет никакой критики или иронии в адрес прежнего дворянства или современных продолжателей и наследников его духовной культуры. Нарастает отрицание лишенных гражданских и политических культур социальных кругов, которые могли бы существенно навредить государству, используя формулу слабых парламентских правительств и их отсутствия стабильности. Теперь поляк, возрожденный религиозными ценностями, является материалом, из которого должна быть выведена «организация нации» или «национальная элита».
Дмовский пытается оправдать свои предложения, защищая местные культурные и социальные условия.
" Смертельно нелепо вводить в государстве приемы и методы действия, требующие этих умственных и нравственных качеств, тех элементов социальной психики, которые есть у других наций, которых нет у нашей нации, но игнорировать и пренебрегать теми ценностями, которые лежат в нашей нации, которые не существуют в другом месте или существуют в более слабой или меньшей форме. На этих ценностях, на этих нравственных ресурсах нация стремится прежде всего выстраивать свою творческую политику.
Этими главными ценностями, как я уже сказал, является религия, являющаяся в нашей стране великой живой силой, и это высокое моральное отношение к родине, как я только что пытался его определить».
Дмовский также предостерегает от подражания фашизму, мотивируя таким мнением, что тот не придерживается польского менталитета. Параллельно он выступает и против сдержанности человеческой мысли, ставшей повседневной практикой тоталитарных систем. Конечно, он не думал о том плюрализме, который был характерен для либеральной формации.
В заявлениях лидера национальной демократии 1920-х годов по вопросу об успехе в политике все еще мало признаков некоего дисфункционального католицизма. В 1926 году он отметил:
"Гуманитарные формы, которые на языке протестантских народов были лишь формой, украшением реальных занятий, Мода в ПарижеК значительным частям католических народов относились достаточно серьезно, стали главными директивами поведения».
Это можно интерпретировать как выражение убежденности в том, что католики и, следовательно, поляки менее эффективны, не будучи безжалостными в своих действиях. Однако нет никаких предложений разрешить такие методы. Его заявление скорее является утверждением принципов, управляющих католической культурой, отрицанием материализма и признанием ведущей роли религии в формировании национального сознания. Это было уже время доминирования в намерениях католических общественных ценностей, что особенно после объявления энциклик. Quadragessimo anno В 1931 году все больше кругов поляков стали для них ориентиром. Важно подчеркнуть, что эти идеологи и мыслители, вступившие на противоположные пути, не добились никакого успеха, а наоборот были последовательно маргинализированы. Этот процесс приобрел особую интенсивность в последние годы жизни Дмовского, когда он прекратил свою общественную деятельность и в следующий период. Таким образом, в Польше была создана новая идея, которую можно назвать реалистичной, когда речь идет о завоевании правительства душ. Однако она явно не отвечала тем требованиям, которые поставила перед ней Польская Республика, очень неблагоприятная геополитическая ситуация, то есть положение страны между двумя империалистическими державами, которые отрицали ее право на самостоятельное существование. Эта ситуация потребовала всех имеющихся средств для построения существенно прочных основ государства, которое смогло бы стать центром той или иной формы Центрально-Европейской федерации, как это представляли в своих выступлениях в годы Второй мировой войны различные лидеры как национальных, так и радикальных группировок. Этот вызов не мог удовлетворить экономическую и социальную мысль «молодых» всего национального лагеря того времени. Идеологи, такие как Адам Добошинский, основывали свои убеждения на политических и даже цивилизационных условиях. Ситуация требовала выстраивания высокоиндустриализированной экономики, а не мелкомасштабной экономики мастерских, которую автор трижды возобновлял и читал в 1930-е годы. «Национальная экономика». Польский «Большой», но и в материальном измерении, не только «духовный». Польша, населенная динамичным человеческим элементом, одной из основных черт которого была бы инстинктивная «поддержка вперед» и стремление расширить свои влияния, а не идеал спокойствия. В целом формирование «молодых» — исключение составляли, пожалуй, несколько относительно небольших кругов, сосредоточенных в Фаланде.— она не соответствовала таким условиям, не выполнив многих предложений, содержащихся в ранней мысли Дмовского и его коллег. Вот почему сегодня мы можем задать вопрос: не должны ли мы их вернуть?
Богумил Грот
Статья опубликована в No 22 «Национальная политика».