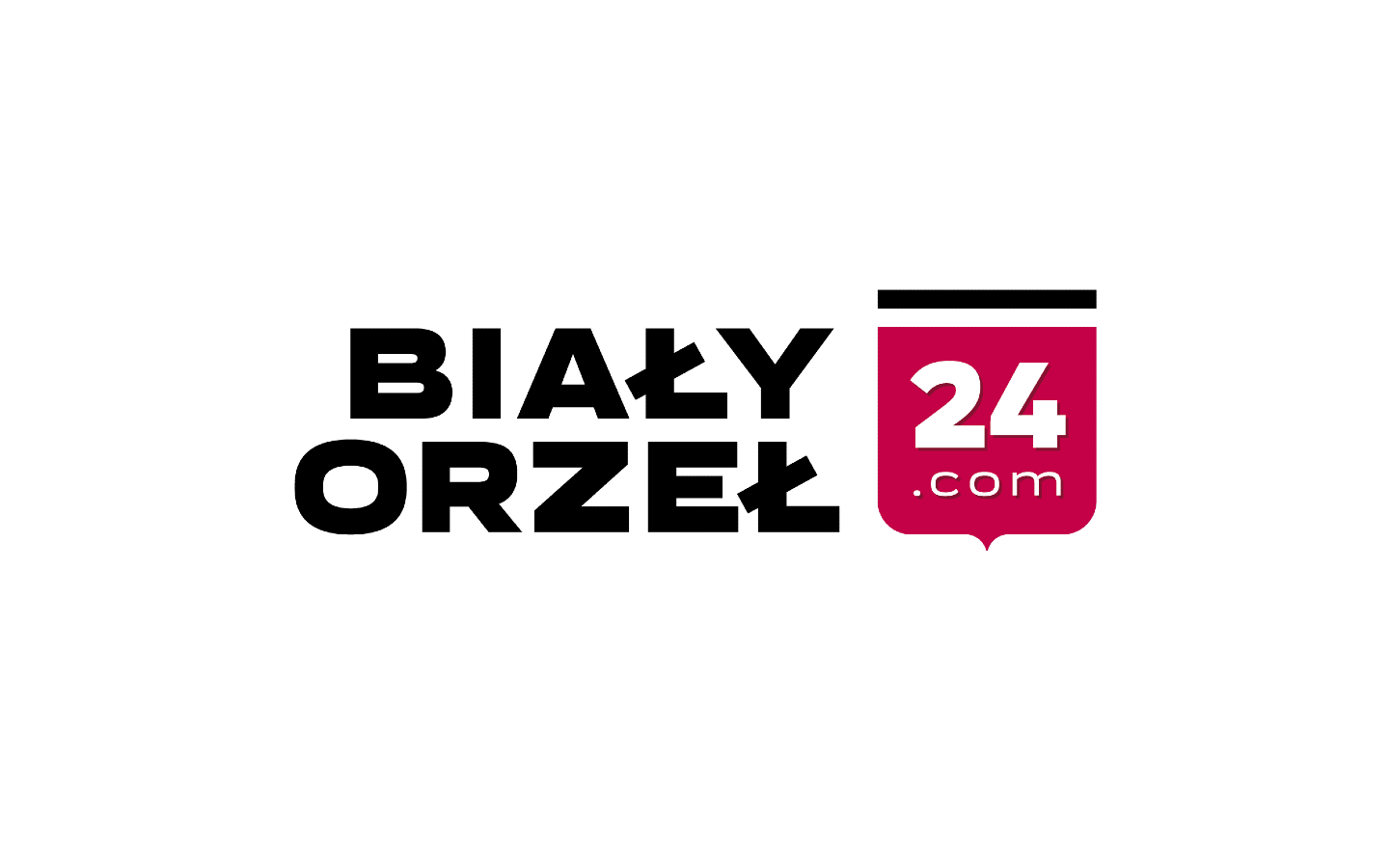Тема антикоммунистического партизанства более широко фигурировала в польских общественных дебатах до 2000 года (не после 1990 года, а после 2000 года), а также других «политически некорректных» темах, таких как Волынская резня. Вокруг него росло множество мифов, споров и недоразумений. Хорошим признаком является то, что это дело уже выходит на свет, так как хотя бы не собирается "молчать". По случаю их дня (выбранного строго по договору) давайте вспомним некоторые основные факты об этом движении (и отделим факты от легенды).
Кто они были?
В целом партизан после мировой войны базировался на бывших солдатах АК и НСЗ (хотя в этих группах были и те, кто не попал в бой). Мотивы были разнообразны. Иногда речь шла об идеальном антикоммунизме, иногда после навязанной власти ничего хорошего не ожидалось, иногда ожидалось начало новой войны Восток-Запад (т.е. СССР против США и Великобритании).
Следует напомнить, что АК был распущен в январе 1945 года (после 3 лет эксплуатации). Так что не было ни одной организации, ни одного имени, ни одного командования для антикоммунистического сопротивления (кроме как при немецкой оккупации, где в 1942 году были крупнейшие АК и несколько меньших групп НСЗ или БЧ). После 1945 года у нас КПВ. АКО, НЗВ и все легионы мелких подпольных организаций. Все эти группы имели разные сферы деятельности, численность и командование.
Следует также подчеркнуть, что модный (и довольно неудачный) термин «солдаты прокляты» появился на свет до 1990 года, а более широкое распространение вошел после 2000 года. Во времена антикоммунистической подпольной деятельности никто никогда не использовал этот термин. Правящие коммунисты, хотя и рьяно их ругали, использовали термин «банда». Население (преимущественно сельское) часто говорило «дерево» (эта фраза была в обращении и для оккупации), они сами любили называть себя просто польской армией (или как ветвь [...] и здесь падает псевдоним командира).
Термин «проклятые солдаты» относился к клевете этих боевиков правительственной пропагандой, и надо признать, что (к сожалению) в нынешней Польской Республике они приняли свое обозначение. К сожалению, другой предложенный термин «неуязвимые солдаты» с гораздо более позитивным лингвистическим эффектом не победил. Это пошло на пользу маргинальным (или шумным) левым группам, пропагандирующим такие лозунги, как «справедливо проклятые» или «проклятые бандиты», наступающим на послевоенных партизан.
Язык, однако, живет своей жизнью, и борьба с утраченными фразами похожа на поворот Вислы назад палкой. Отсюда и термин «солдаты прокляты», но автор делает это без энтузиазма.
За что они боролись?
В поисках общего знаменателя для этого подполья (которое мы знаем для целого ряда групп и ветвей) мы обязательно найдем антикоммунизм, но не намного больше. Так что можно сказать, что проклятые в целом боролись за Польшу, независимую от восточного соседа, без навязанной нам сталинской системы. В деталях политической повестки дня они могли отличаться.
Нельзя забывать и об очень важном факторе – очень многие леса боролись просто за физическое выживание. Альтернативой вооруженной борьбе были тюремное заключение и пытки, а часто и смерть через повешение (что только указывало на судьбу выявленных партизан после последовательной амнистии). Такова была разница между боями проклятых и ноябрьским восстанием, которому вдохновители физически не угрожали. В то же время проклятый народ был противником сталинистов, т.е. лиц, не выполнявших своих обязательств (как пример ареста лидеров польского заговора в Прускове в начале 1945 года). Таким образом, выбрав перспективу смерти в бою или в зале казни Убекки (а зачастую и были единственными реальными альтернативами), проклятый выбрал первое, и удержать его против них трудно.
Чего они достигли?
На этот вопрос будет дан ответ – к сожалению, ничего. Ведь мы читаем в биографии проклятого как правило: арестованного, замученного, приговоренного к смертной казни или длительной тюрьме (или: убитого в борьбе с более многочисленным противником). Известно также, что горстка партизан (хотя и при поддержке значительной части общества) не имела шансов одержать вооружённую победу и свергнуть коммунистическую власть, чего тоже не произошло.
Но является ли битва проклятых напрасной? Ну, не совсем. Их главной заслугой было замедление, отсрочка введения коммунизма в Польше (точная после 1945 года заставила нас в худшем сталинском варианте этого). Хорошим примером является судьба Подгале, где до начала 1947 года находилась пожарная команда. Власть ПНР на практике закончилась там на уездных углах Новых Таргов, а в деревне коммунистам пришлось действовать практически в конспирации. В стране было больше таких регионов и районов. До амнистии 1947 года (о которой ниже) в большей части провинциальной части Польши преобладали две власти - ПНР и УБ, правившие днем, и партизаны, правившие ночью.
Были также случаи местных, но значительных успехов, таких как распад сталинских тюрем или лагерей (Рембертс — май 1945, Кельце — август 1945, Краков — август 1946). Для освобожденных тогда людей (всего их было несколько сотен) деятельность проклятых была, безусловно, важной и полезной. Понятно, что эти люди не сочли бы эти действия ненужными.
И последнее, но не менее важное: заслугой проклятых является также уничтожение многих ревностных сталинистов из ПНР или УБ (это может показаться неприятным, но убийство врагов вписано в каждую войну). Многие активисты, слыша и читая о своих товарищах, не чувствовали себя безнаказанными. В какой-то степени это могло привести к остановке сталинского террора в первые послевоенные годы.
Конечно, проклятые не могли предсказать более поздних случайностей, а конец сталинизма после 1954 года в результате политического оттепели, то есть реформ внутри системы. Остается фактом, что благодаря им навязывание сталинской системы пошло чуть дольше, жестче и стойче (что, в свою очередь, не слишком глубоко укоренилось).
Как долго они сохранялись? (Почему это не было в 1963 году?)
Дата границы в истории проклята амнистией, объявленной в феврале 1947 года, которая оказалась эффективной приманкой. Коммунисты с самого начала играли несправедливо, пытаясь вытащить партизан из леса, и обещая возможность спокойной работы "для такой Польши, какая она есть". Трудно выдвигать лесные обвинения в том, что они не видели шансов на победу (война с Западом не пришла, перемены изнутри ничего не предсказывали) в подавляющем большинстве сложили оружие, разоблачили себя и пытались начать новую жизнь (новая власть им не давала, по крайней мере, до 1956 года).
Амнистия была обычаем (и лицемерной) игры власти. В то время как в середине 1945 года (когда закончилась мировая война) в партизанской войне воевали более 15 000 человек, а к началу 1947 года осталось около 8 000, что ниже 2000, неразрушимых после мая 1947 года. В то время они уже были несколькими противниками, и их было легко отследить (поскольку одним из элементов амнистии было также требование раскрыть их прошлое заговора и связи).
В начале 1950-х годов в общей сложности несколько сотен партизан действовали небольшими, изолированными группами, без какого-либо общения. Их целью было только физическое выживание (поскольку сталинские репрессии продолжались до конца 1954 года). Последняя палата проклятых была разбита в июле 1953 года (и, таким образом, сразу после смерти Сталина) на Б.С. Мазовзе, когда правительственные силы в количестве 1200 выследили и убили все семь лесов, которые все еще были там. Пропорция мощности 150:1 говорит сама за себя и не требует дальнейших комментариев. В любом случае это была последняя битва, в которой антикоммунистическое подполье смогло организовать хотя бы одно компактное (несколько человек) отделение. После этой даты сопротивление (бывших) партизан опиралось только на ФРАНКИНГ.
Об этом следует упомянуть и потому, что в последние годы возник иррациональный культ даты 1963 года (когда была убита последняя из бывших проклятых, некоторые Куклы, скрывавшиеся в Люблинской сельской местности). Кто из нас не видел лозунгов о "подземном 1944-1963", "борьбе за 20 послевоенных лет", "танке до начала 1960-х" и не видел передач на неудачную дистанцию 1963 м. Дата 1963 года не была важной цезией в истории Польши (после оттаивания 1956 года в лесах, вероятно, остались... восемь проклятых, каждый из которых прятался один, и мог подумать, что он последний нерушимый). Гораздо более важной датой является 1956 год, с непродолжительным рабочим стоянием в Познани (если бы какое-то подполье тогда существовало и воевало, оно пришло бы к знакомым с помощью), а позже и десталинация Польши экипажем В. Гомулки (так называемая Октябрьская оттепель).
Случай японского солдата (лейтенанта Хиро Оноды), который прятался на одном из островов Филиппин до 1974 года, живя в убеждении, что война все еще продолжается (только его бывший командир, намеренно отправленный из Японии в бывший подчиненный, вывел его из заблуждения). Японский солдат поверил командиру, сложил оружие и вернулся в страну. Япония, однако, сегодня не признает, что война продолжалась до этого момента. А лозунг о «Армейском подполье 1944-1963» имеет такой же смысл, как и писать о «войне в Азии и Тихом океане 1941-1974 годов», но, видимо, у японцев нет такой необходимости создавать легенды и мифы.
Это того стоило?
В то время как польские восстания (за немногими исключениями) следует оценивать очень критически, следует сделать более мягкий взгляд. Они рисковали собственной жизнью (и судьбой своей семьи) иначе, чем, например, командующий Варшавским восстанием, который рисковал (и потерял) жизнями десятков тысяч людей и существованием польской столицы. К тому же, как уже было сказано, у многих из них не было иного выбора, кроме вооружённой борьбы или подземелья УБ (и их трудно винить в выборе боя). В отличие от ноябрьских или январских восстаний (которые только ухудшили положение поляков) или Варшавского восстания (которых не должно было быть), в чисто практическом измерении борьба проклятых за что-то была полезна в общем балансе (медленное введение сталинизма, ликвидация некоторых Убеков, уничтожение тюрем). Это была проигрышная битва, но не бессмысленная (о чем лучше всего могли свидетельствовать освобожденные из этих тюрем люди).
Так давайте вспомним таких персонажей, как Варшиц, Лупашек или Инка (и о таких преступниках, как Стефан Мичник, о том, что они рьяно прибивали смертные приговоры). Но давайте вспомним этого подпольного антикоммуниста таким, каким он был на самом деле — без проклятий и легенд о «бронированной битве до 1963 года».
Михал Виртель