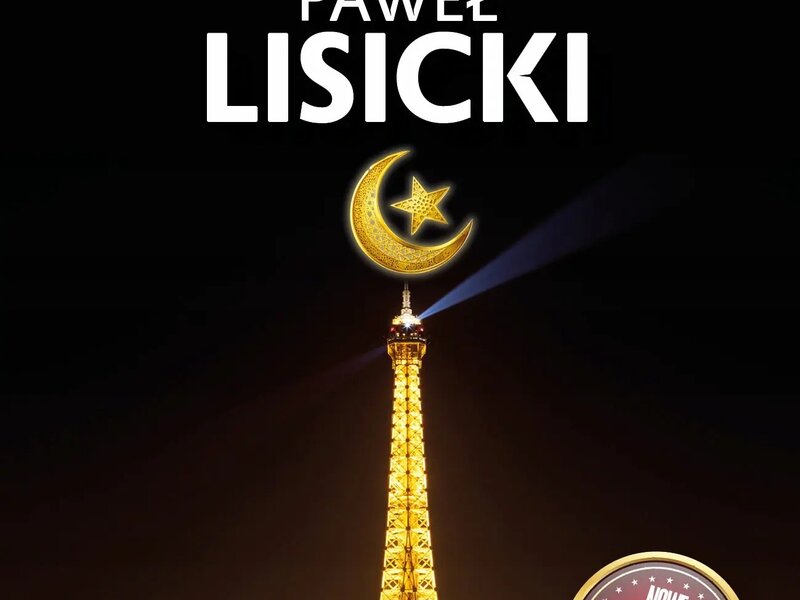После Brexit Евросоюз формирует 27 государств-членов, но страны Западной Европы наиболее важны для интеграционных процессов с Германией и Францией. Кроме того, для прогресса интеграции важны транснациональные элиты, а именно чиновники, судьи и политики, действующие в институтах ЕС. Эта группа в значительной степени ответственна за то, что подталкивает ЕС к федерации, то есть пытается передать власть от государств-членов своим собственным институтам.
В одном из моих текстов[1] я выделил различные модели федерализации в ЕС. Например, так называемые мейнстримные депутаты Европарламента и, таким образом, крупнейшие фракции в Европейском парламенте последовательно выступают за парламентскую федерацию, и поэтому парламенту будет все больше и больше говорить. С другой стороны, чиновники стремятся укрепить брюссельскую администрацию, в том числе Комиссию и агентства ЕС, чтобы они могли все больше быть автономными по отношению к государствам-членам, и даже эти страны контролируют или влияют на их внутренние дела. Такой процесс очевиден в случае споров о верховенстве права, когда комиссары пишут законы для польского парламента, которые должны распоряжаться системой правосудия над Вислой. Фактически они вмешиваются в компетенцию, которая в свете договоров принадлежит государствам и их демократиям, а также в организацию правосудия на национальном уровне. Таким образом, Комиссия распространяет свои полномочия и политическую позицию на все государства-члены, а не только на Польшу.
Другим типом федерализации является стремление судей ЕС преобладать над национальными конституциями и преобладающими решениями Суда ЕС над национальными конституционными судами. Существует также фискальный федерализм, который направлен на увеличение доходов бюджета ЕС, тем самым вводя новые налоги и сборы на уровне ЕС. Эта тенденция стала очевидной после пандемического кризиса и нашла отражение во введении Европейского союза следующего поколения вместе с сопутствующими налогами Союза. Это поддерживают как элиты Европарламента, так и чиновники ЕС, которые считают, что это увеличит их власть в объединенной Европе.
Эти страны имеют огромное влияние не только в межправительственных институтах, но и в Парламенте и Комиссии, и могут оказывать неформальное влияние на прецедентное право судов ЕС. Поэтому элиты этих стран предполагают, что федерализация повысит их способность более эффективно управлять Европейским Союзом. Например, Германия, как и Франция, стремится увеличить круг вопросов, за которые большинство голосовали в межправительственных учреждениях. Это федеральное решение, которое направлено не только на то, чтобы сделать решения более эффективными, но и на то, чтобы принять меры, которые выгодны немецким и французским интересам. Другие страны не окажут такого большого влияния на институты ЕС после запланированных системных изменений, но они также сдаются. Это по многим причинам. Некоторые соглашаются с такими изменениями, зная, что они не могут эффективно остановить эти процессы, а также ценят другие выгоды интеграции сверхнационального суверенитета. Другие страны вынуждены одобрять такие изменения в результате давления СМИ, политического или финансового давления. Так было в случае польского и венгерского правительств, которые изначально не соглашались на системные изменения, справедливо полагая, что это ограничит их способность эффективно защищать национальные интересы в интеграционных процессах. Позже под влиянием санкций и критики, проводимой в либеральных СМИ, они воздержались от блокирования системных изменений.
Все описанные системные изменения были осуществлены без исправления европейских договоров и, таким образом, без единогласного согласия государств-членов. Таким образом, они подняли конституционные и демократические проблемы. Теоретически передача новых компетенций ЕС всегда должна происходить в результате принятия всеми странами выраженной через процедуру, соответствующую национальным правилам ратификации международных договоров.
В последние годы тенденция федерализации наиболее очевидна в контексте конфликта вокруг верховенства права и других так называемых европейских ценностей и в борьбе с экономическими кризисами, которые привели к введению фискального федерализма, то есть общего долга и налогов ЕС.
Поэтому, думая о будущем ЕС, можно предположить углубление системной тенденции в сторону федерации и централизации управления. Он, вероятно, продолжится без формального пересмотра договоров и укрепит институты ЕС, такие как парламент, комиссия и суд ЕС, а также роль крупнейших западноевропейских стран в процессах принятия решений. Такие системные изменения углублялись во время последовательных кризисов, затрагивающих Европу в 21 веке. Было признано, что ЕС будет лучше реагировать на кризисы, когда он будет более централизованным, таким образом, управляемым транснациональными элитами и элитами двух крупнейших государств-членов.
Проблема в том, что французско-германское руководство не вполне совместимо, и даже между Парижем и Берлином существует мощная напряженность в отношении дальнейших направлений интеграции. Примером может служить отношение к США и трансатлантическим отношениям. Париж традиционно выступает за увеличение стратегической автономии в отношении Вашингтона и за создание сильной геополитической позиции для ЕС, очевидно под руководством французской элиты. Еще одно геополитическое предположение — стремиться к наилучшим возможностям отношений с Москвой и Пекином, и таким образом отказаться от участия в американском соперничестве прежде всего со стороны КНР, но в некоторой степени и с РФ. Этот геополитический взгляд в значительной степени разделяет Берлин, но под влиянием войны на Украине, особенно с Россией, ему пришлось подорвать доверие к Западной Германии в странах так называемого восточного фланга НАТО и в США. Поэтому через некоторое время Германия стала более вовлеченной в военную и финансовую помощь Киеву, они предложили совместные оборонные проекты для стран Центральной Европы (например, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также наличие батарей Patriot для Польши). Они также увеличили закупки оружия в США, особенно самолетов, используемых для перевозки ядерных боеголовок США, размещенных в Германии. В частности, этот недавний жест в отношении американцев привел к крупному кризису в германо-французских отношениях, поскольку это было за счет прекращения работы над многозадачной программой следующего поколения в сотрудничестве между Францией и Германией. Последующие решения Берлина должны были оказать негативное влияние на возможности ускорения интеграции в оборонную политику ЕС.
Еще одной проблемой для прогресса интеграции являются дальнейшие кризисы, затрагивающие ЕС, с серьезными экономическими, социальными и политическими последствиями. Примером может служить нестабильная ситуация в валютном союзе. После финансового кризиса 2007 года в еврозоне произошел многолетний кризис, из которого валютный союз на самом деле не вышел сегодня. У Европейского фонда реконструкции недостаточно возможностей для стабилизации еврозоны. Философия его действий заключается в том, что все страны ЕС, в том числе без европейской валюты, должны состоять в финансовом отношении, чтобы спасти южный валютный союз. Массовый кризис, вызванный российской агрессией против Украины, может дестабилизировать единую валютную систему, что будет иметь негативные последствия для европейской интеграции. Это негативно скажется и на самой Германии.
На сегодняшний день они сделали большую часть валютного союза в Нидерландах. Даже на самой большой стадии кризиса в еврозоне немецкие бюджетные и финансовые учреждения получили ряд преимуществ от евро. В то же время Германии удалось довольно эффективно переложить издержки кризиса и спасти зону евро на другие, особенно на кризисные, неевропейские финансовые институты (МВФ) и даже страны, не входящие в зону евро (например, Европейский фонд реконструкции). Европейская валютная система в первую очередь снижала валютный курс, в котором учитывались немецкие предприниматели, и тем самым повышала конкурентоспособность немецкого экспорта. Растущие коммерческие выгоды означали увеличение бюджетных поступлений, а также привели к увеличению геополитического значения Германии в Европе. Выражением этой тенденции было то, что в следующих кризисах это было последнее слово немцев за направление антикризисной политики. Другими словами, если еврозона развалится, это уменьшит экономический и политический потенциал Германии, а последствия такого сценария разрушат мечты о федерации ЕС. Они также должны привести к мощным спорам между акционерами еврозоны, включая стоимость ликвидации валютного союза.
Пример кризиса в еврозоне показывает логику действий государств-членов, которые, как известно, не равны в Союзе, и поэтому имеют асимметричное влияние и реальную политическую власть. Преимущества дальнейших проектов ЕС накапливаются в крупнейших, богатейших и наиболее влиятельных государствах-членах. Затраты несут те, кто наиболее слаб политически, беднее, менее конкурентоспособен или находится в наиболее проблемном положении. Руководство крупнейших государств не только интересно, но иногда приводит к серьезным ошибкам, которые дорого обходятся всем. Приведем пример климатической политики ЕС.
Она базировалась на российском сырье, в первую очередь на поставках дешевого российского газа. Позже выяснилось, что это служило в первую очередь геополитическим интересам Кремля и было непосредственно ценой безопасности Украины и Польши, а также других стран, подвергшихся агрессии со стороны России. Последствия ударили по ЕС в целом, вызвав инфляцию и мощный многолетний энергетический кризис, который может серьезно ослабить экономический и продовольственный потенциал Европы. Уже сегодня известно, что кризис вызовет спад, рецессию во многих странах ЕС (включая, вероятно, Польшу), резкое увеличение государственного и частного долга, серьезные трудности в обращении с этим долгом и, таким образом, может привести к дальнейшим экономическим, социальным и политическим проблемам. Кроме того, энергетический кризис усугубляется климатическими амбициями ЕС.
Что еще хуже, климатическая политика в ЕС не адаптируется к кризису, а в последние недели еще более амбициозна. В качестве примера можно привести распространение СЭД на жилищный транспорт и отопление, что означает дальнейшее увеличение для водителей, предприятий и домашних хозяйств[2]. Таким образом, ЕС не реагирует оптимально на энергетический кризис и должен неизбежно его обострять.
Это пример того, что и французско-германское руководство, и наднациональные элиты в институтах ЕС не в состоянии справиться с серьезной геополитической и экономической ситуацией. Они привязаны к более ранним планам и не реагируют адекватно на новую ситуацию. Они совершают многочисленные ошибки и, кроме того, действуют эгоистично, то есть пытаются переложить издержки на более слабые социальные группы или государства-члены. Таким образом, они теряют доверие как лидеры для ЕС в целом. Этот стиль выработки политики во время кризисов, который включает в себя чрезмерный эгоизм величайших акторов, неэффективность или ошибочные решения, которые они делают, и который часто указывает на отделение «лидеров» от реальности и социальных проблем, представляет наибольшую угрозу для ЕС. Тем более что голос разума чаще всего подавляется, а сопротивляющихся все чаще стигматизируют популистским способом как угрозу Европе или даже санкции. Таким образом, такой способ управления интеграцией может помешать мечтам о создании федерации в Европе. Помимо возникающих кризисов, он может стать наиболее вероятной причиной распада Европы.
Чему мы можем научиться из нашего анализа? С польской точки зрения, вступление в валютный союз или участие в программах поддержки еврозоны (как и в Европейском фонде реконструкции) является рискованным до тех пор, пока система валютного союза не будет реформирована и ее структурные недостатки не будут устранены. Следует также иметь в виду, что сегодня евро является геоэкономической системой, которая была разработана в первую очередь на благо Германии - в целях укрепления их политического доминирования в ЕС.
Польша должна быть очень осторожна в отношении дальнейших идей федерализации, потому что они часто экономически не выгодны польским налогоплательщикам, и они фактически ограничивают объем решений ЕС для национальных избирателей и политических элит. Они в целом усиливают влияние крупнейших западноевропейских стран. Главной проблемой для поляков является кризисная ситуация, и особенно ограничения или издержки, вызванные неправильной политикой ЕС. Это, вероятно, потребует от польских властей более смелых решений, чем предыдущие действия. В то время как правительство регулирует цены на сырье и энергию, оно в значительной степени адаптируется к решениям ЕС на европейской арене, надеясь, что ЕС решит наши проблемы.
Сноски:
- Президент Европа движется к демократической федерации?[в:] То же самое, Ежегодник польских европейских исследований, Vol. 20/2017, pp.
- Ф. Ди Сарио, ЕС Соглашение о критической климатической политике после марафонских переговоров«Политико» 18.12.2022, https://www.politico.eu/article/climate-policy-deal-emissions-trading-system-european-union/ 18.12.2022.