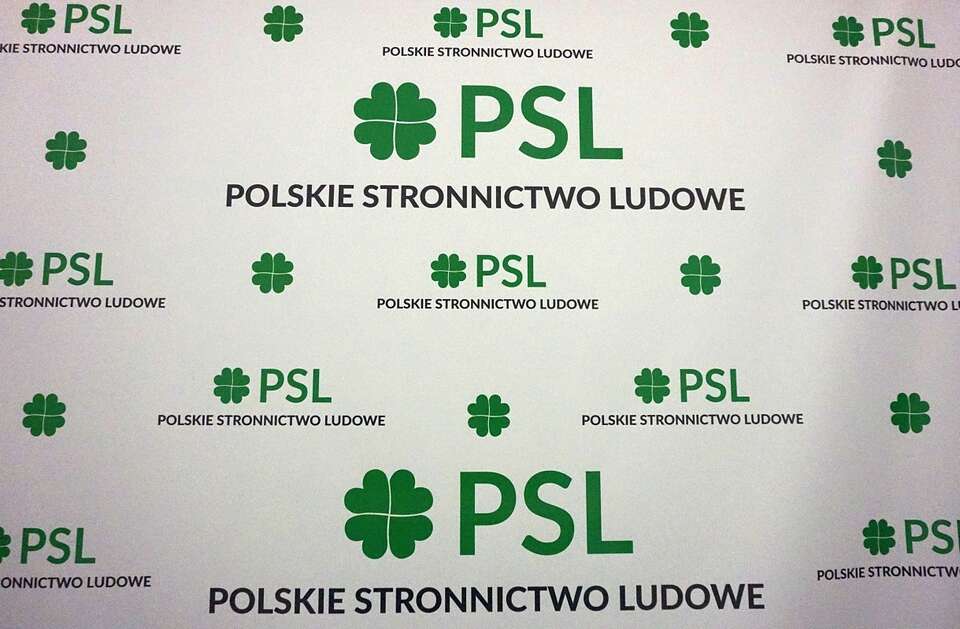В ходе конференции «Крынинский форум» экс-глава правительства обсудил с вице-спикером парламента Кшиштофом Босаком, смогут ли «Право и справедливость» найти общий язык с Конфедерацией. Однако дискуссия вышла далеко за рамки внутрипартийных конфликтов. Дискриминаторы также говорили о важности религии для современных правых движений. В ходе дискуссии Матеуш Моравецкий признался, что не верит в то, что социальное учение Церкви остается вполне современным указателем. Политик ПиС также удивил публику, заявив, что сам видит себя «еретиком», поэтому по пути к нему с политическими течениями осуждает преподавательская контора. Редакция PCh24.pl попросила офис Матеуша Моравецкого развить эту мысль. Среди дебатов о форме катехизиса в стране признание экс-премьера неортодоксальным взглядам говорит о состоянии Преподавательской Церкви.
Что именно сказал Матеуш Моравецкий во время дискуссии, организованной Ягеллонским клубом? После более продолжительной части беседы лидер встречи Констанца Пилава спросил о будущем правой руки в секуляризации. В ответ бывший глава правительства указал, что не видит необходимости противостоять политическим течениям, осуждаемым традиционной интерпретацией Церкви.
- Эти современные великие течения, с которыми мы сталкиваемся, — это либерализм, социализм, консерватизм. Все они дети христианского мира. - убежден премьер-министр предыдущего правительства. — Может быть, социализм и либерализм — это даже христианские ереси, и я, как последователь пелагианства в какой-то степени, тоже чувствую себя еретиком... - добавил он. — Я бы абсолютно не пытался сохранить эти понятия католицизма в рамках 19-го или 20-го века, потому что мне кажется, что тогда будет очень трудно найти общий язык (...) с широким кругом общества. Продолжал политик.
Из изобилия сердца
Слова Моравецкого не получили особого внимания, и они настоятельно требуют более длительного размышления. Это больше, чем их удивительный характер. Чтобы удостовериться в том, что именно имел в виду видный политик "Права и справедливости", мы попросили офис бывшего премьер-министра выработать отражение дебатов. Кратко вспоминая основы древней ереси «пелаганизма», мы просили занять более всестороннюю позицию.
«Пелагиаризм мы называем осужденным мнением католической церкви, что: а) грех Адама и Евы был положительным, потому что он наделил людей свободной волей, позволив им достичь нравственного совершенства b) люди способны достичь нравственного совершенства без помощи рабочей благодати c) для достижения нравственного совершенства человеку не нужна помощь Бога, но дружба другого человека d) люди не нуждались в Искуплении Страстями Спасителя Христа», мы кратко изложили несколько верований, которые можно понять как «пелагинские». Мы любезно просим вас развивать мысли премьер-министра. Какой из принципов этой древней ереси близок ему, и что конкретно понимает премьер-министр, называя себя «конституцией» этого течения?
Более того, премьер-министр признал пелагиец В ходе дискуссий высказывались мнения об отношении Церкви к великим политическим течениям, таким как социализм и либерализм. В этом контексте взгляды пелагиец Это можно понимать как убеждение в том, что в общественной и политической сферах благодать и вера обществ не имеют первостепенного значения в их развитии, и что полное превосходство сообщества способно достигаться собственными силами и без религиозных оснований.
Ответ от главы правительства действительно пришел к нам. Матеуш Моравецкий составил в данном случае 5-страничный текст, который был направлен в ответ нашей редакции. Хотя в ней содержится краткое изложение истории развития учения Церкви о благодати Божией, она лишь смутно затрагивает этот вопрос. В своей работе премьер-министр сосредоточился на критике протестантского учения о предопределении, объясняя, почему оно вызывает его оппозицию. Между тем, пелагианство не является логическим результатом отказа от такой точки зрения. Но посмотрите, что написал бывший премьер-министр:
Отец Ян Твардовский: «Господь Бог дал человеку свободу воли, поэтому он не может никого заставить любить; он должен быть избран. Это парадокс: Всемогущий, который не может сделать все. Он приходит и просит любви. "
Свободная воля и любовь
Существенная часть спора о связи между благодатью и свободной волей вступает в вопрос о Божьей благости и любви к человеку, ко всем людям. Если мы примем учение о предопределении, то в то же время должны ответить на вопрос, как возможно, чтобы добрый Бог, зная все (до и после), мог согласиться только на спасение какого-то народа, избранного народа. Это противоречило бы основному принципу Божьего совершенства и святости. Вся сфера рассмотрения теодицеи также пытается найти ответ на вопрос о существовании зла в мире, созданном добрым Богом.
Ответ на этот вопрос (как и на все наши вопросы о Боге и вечности) — свободная воля. Пелагий очень отчётливо наблюдал это на рубеже IV и V веков. Его рассуждения подчеркивали важность свободы воли в жизни человека и вошли в этику ответственности за его поступки. Пелагий вступил в спор со святым Августином и был осужден. Однако стоит отметить, что Святого Августина наиболее сильно называли Лютером и Кальвином и всеми последующими протестантскими сектами. Ибо они были ближе всего к познанию благодати и предопределения. Предопределение, однако, предполагает трудное (если не невозможное) объяснение роли свободной воли в жизни человека, и предварительное осуждение некоторых людей добрым Богом противоречит элементарному пониманию Божьей любви к людям и наших шансов на хорошую жизнь в результате эксплуатации нашей свободы и эксплуатации свободной воли каждого человека.
Этот спор появился в наиболее зрелой форме во время дебатов между молинистами и доминиканами в 16 веке (так называемый спор De Auxilis). Молинисты во главе с Луисом де Молиной и Франсиско Суаресом подчеркнули роль свободы воли в жизни каждого человека. Доминго Банес, Диего Альварес и другие доминиканцы стояли на позиции гораздо ближе к Сент-Огастину. Характерно, что в этом споре молинисты называли доминиканцев «кальвинами», а последние говорили о молинистах, что они «пелаги».
Иезуиты Молины считали, что благодать не может быть возвращена с вектором на зло, но может быть сорвана, и поэтому любой человек может злоупотреблять благодатью, потому что у него есть свободная воля. В этом заявлении они вспомнили записи Трентского совета. Во многих интерпретациях Ватиканский собор еще больше укрепил это понимание способности свободной воли «объектировать» благодать.
Таким образом, можно видеть, что, несмотря на осуждение пелагианства 1600-летней давности, католическая церковь все больше подчеркивает важность свободы воли, которую Пелагий, Эрюген, Дунс Шкот, Вильгельм Оккам и все, кто предъявлял высокие моральные требования к человеку, считали, что человек может делать добро своим выбором и сознательно направляли на использование свободной воли для добрых дел и поиска истины.
Молинисты стремились ответить на знаменитый вопрос Исаии, обращенный к Богу: «Почему, Господи, ты позволяешь нам уклоняться от твоих путей...». Как и Исаия, я думаю, что Божья любовь к человеку подразумевает возможность принимать плохие решения на основе свободной воли. Скорее, Бог хочет, чтобы мы были свободны и использовали эту свободу наилучшим образом. Я далек от веры в предопределение, которое противоречит такому пониманию свободы и свободной воли.
Весь этот вопрос имеет решающее значение для ответственной жизни каждого человека. Это также связано с попыткой выработать общий знаменатель между всемогуществом Бога, Его святостью и безграничной любовью ко всем людям и каждому из нас. Признание свободной воли человека как механизма, зависящего от сверхъестественного и всемогущего действия Бога в каждую наносекунду нашей жизни, легко толкает нас в извилины апор и слепых улиц философских и богословских дискурсов. Простой путь таких рассуждений и такой веры в предопределение — фатализм, как философский, логический, так и теологический.
Здесь не место вдаваться в детали фатализма в различных воззрениях, но стоит отметить, что свобода воли является элементом, понятным подавляющему большинству людей. Дополнительной областью, возникающей из моих размышлений о свободной воле и благодати, является проблема добра и зла, вины, наказания и ответственности за свои собственные действия, свободы и конкретно понимаемого «рабства», вечности и временности нашей жизни или, наконец, детерминизма (необходимости событий) и случайности.
Перспектива свободы воли подразумевает необходимость нашей человеческой борьбы за добро, наших усилий по поиску добра, истины и справедливости. Марсин Лютер в споре с Эразмом Роттердамским и Яном Кальвином в споре с Альбертом Пигием подчеркнул, что именно близость их понимания благодати и предопределения с пониманием святого Августина является фундаментальным различием между позицией Католической церкви и зарождающимся протестантским богословием. В этих дебатах я определенно ближе к Эразму и Альберту Пигию.
Вера в смысл человеческой жизни также подразумевает веру в разумность и последствия наших решений. Свобода выбора. Предполагая, конечно, что конечный результат и оценка этих решений и наша ответственность за них принадлежит Богу.
Я не хочу вступать в дискуссию о первородном грехе, но стоит отметить, что в то время как упомянутый доктор церкви Святого Августина думал, что мертвые без крещения дети попадают в ад (Синод в Карфагене, начало Vw. «De peccato originali»), в наше время Иоанн Павел II и после него Бенедикт XVI ясно указывают, что дети, которые умирают без крещения, могут быть спасены. Джон Павел II также беатифицировал Дунса Шотландца, чья вера в важность свободы воли (с различием «affectio commodi» и «affectio iustiae») далека от доктрины, представленной святым Августином.
Сегодня человек избегает ответственности. Он убегает в разные доктрины. Преобладающая сегодня в западном мире либеральная доктрина предполагает «свободу от». Поэтому, я думаю, стоит также отметить с этой точки зрения, что человек создан не только для «свободы от», но, прежде всего, для того, чтобы использовать свою свободную волю, чтобы «сделать мир лучше».
Поэтому я рассматриваю все идеи, от янсенистов до либертарианцев и либералов, которые фактически снимают с человека ответственность за сообщество, за общее благо и, отчасти, также за их действия, их халатность или «потерянные таланты».
И наконец. Соборная пастырская конституция о Церкви в современном мире «Гаудиум и шпионы» утверждает, что Бог хочет «оставить человеку в руке совет своего Создателя искать по своей воле и держаться за него, прийти к полному и благословенному совершенству».
Мы не знаем, каково это. Мы верим, что наша жизнь имеет смысл. Поэтому мы считаем, что наши свободные выборы имеют смысл. Поиск добра, любви, солидарности и правды имеет смысл. Это моя вера, и я пытаюсь сделать это своими действиями.
Подпись: М.М.
Церковь, которая потерпела неудачу
На самом деле, этого ответа мало. Однако нетерпеливое признание премьер-министра «чувствовать ересь» требует комментария. Вот политик ведущей фракции в Польше, выступая по поводу паломничества Ясна-Горы и направляя свои походы на стереотипного «польского католика», публично заявляет, что следует осуждённой церковью точке зрения. В ответ на просьбу о значении своей декларации и после напоминания о пелагианстве он не отступает от этой позиции... Это горькое свидетельство о катехизическом состоянии Церкви в Польше. Тенденция, которая очевидна, действительно глобальная – чем хуже, тем больше слышно о реке Висла.
Если ключевой деятель политической жизни, регулярно принимающий в церквях и политически зависимый от поддержки верующих, без тени страха объявляет, что он «признает» осуждённое учение Церкви и устраивает его в компанию других некатолических верований, то передача учения провалилась. Но не только его. Церковь в Польше не смогла объяснить Матеушу Моравечу важность передачи веры, непогрешимости характера и божественного источника католической истины. На практике – живя в тесных отношениях с Мистическим Телом Христовым – бывший премьер-министр остается равнодушным к отложению веры. Он не может понять, почему заявление о собственной ереси опасно с одной стороны, но и почему он мог пересечь свое положение в глазах верующих...
Однако сегодня он ничего не упускает. Вот в чем проблема. Без противоречий, как видно из сегодняшней Церкви, даже широко известные личности могут отрицать Откровение... и ничего. Это не просто проблема не реагировать на иерархию или распространять себя среди себя. Моравецкий - политик, поэтому он должен опасаться реакции католического "мнения". Сегодня, однако, он не должен бояться... потому что многие польские верующие воспитываются в том же невежестве, что и он.
Это еще одна часть панорамы доктринального хаоса, которая сегодня присутствует в Церкви. Помимо нарастающих тенденций «изменения учения» царит абсолютное пренебрежение доктринальным образованием. Возможно, именно поэтому существуют неправильные теологические воззрения — мало кто действительно понимает риски, которые они несут. Знания о том, что священные истины о Боге и нравственности, по-видимому, содержат мало веры.
Это кризис, который нужно учитывать сейчас, когда идет дискуссия о катехизации молодежи в нашей стране. На протяжении десятилетий основная скрипка была сосредоточена на «субъективном аспекте веры» - сосредоточении внимания на построении идентичности учащихся с церковью и религией. Лекция о том, во что верит Церковь, мучительно не хватает.
Проблема утраты осознания важности католической науки также преобладает в политическом смысле слов экс-премьера. Политик утверждал, что в наше время политика не может основываться на ортодоксально католических основах. Это означало бы возможность вдохновиться антихристианскими течениями мысли, которые отвергли великие защитники веры — Леон XIII, Пий IX и другие отважные папы.
И в конце концов, осуждая либерализм, говорила ли социализм Церковь прежде всего об их ошибочных метаполитических предположениях — о природе человека или об обязательствах общества перед обществом. Боже. Реабилитация этих взглядов является не политическим актом, а цивилизационным актом, признаком сомнения в том, что политическая жизнь может строиться на чистых христианских основах.
Связь между этой политической «ереси» и недоверием заключается в утрате веры в универсальность и полноту католической науки. Что-то вроде этого касается «пелагианства». Ядром этой ереси является восхваление первородного греха, благодаря которому человек приобретет благородное сознание и стерильность. По словам Пелагия, состояние до грехопадения было намного хуже, потому что это означало «свободное» следование Божьим указаниям. Сегодня многие христиане считают себя и мир похожими. Религиозные истины должны уступить светскому интеллекту, развитию науки, знанию экспертов. Однако ход Откровения будет свидетельством ограниченности и мракобесия.
Эта тенденция также меняет лицо католической политики. Еще в «Quas Primas» Пий XI ясно заявил, что лучшим путем к миру и развитию обществ было всеобщее царствование Христа. Леон XIII в энциклике «Бессмертный Дей» также писал о ключевости христианства на благо народов... Сегодня эта логика была полностью заменена, так как во имя всеобщего братства или других социальных причин правдивости католической веры необходимо хранить молчание или предостерегать от законодательного закрепления на ее основе (как в случае осуждения отсутствия законодательства о гомосексуальных отношениях), рассматривая секуляризацию общества как симптом его прогресса.
Я считаю, что такое «пелаганство» может быть принято целой группой католиков, исповедующих веру и поддерживающих тесные связи с Церковью. Но когда мы смотрим на первоначальное, древнее пелагианство, мы видим ужасную точку этого отношения. Это признание необходимости Страстей Христовых, Божьей благодати – слова мира, в котором достаточно человека. Это направление «открытой церкви» и современной Польши. Бог кажется все менее и менее необходимым, все менее и менее присутствующим. Человек узурпирует Его место.
Филипп Адамус