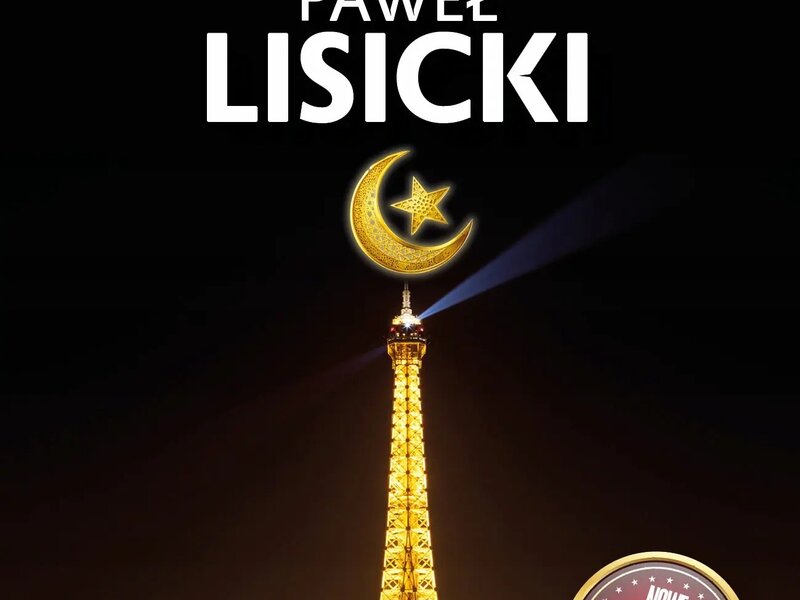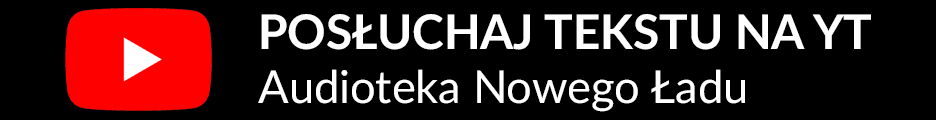
Нынешняя эпоха знаменует собой изменение правильных отношений между человеком и обществом. Современные идеологии ставят индивида как рецензента социальных институтов, устоявшихся убеждений, убеждений и обычаев. Они относятся к ней как к рациональному судье, к тем многовековым и общинным условностям, заранее признавая ее пустой, неоправданной и готовой к «разоблачению». Для современного универсализма и консолидации данных мнений, например, в авторитарной или традиционной, можно даже доказать их ложность. Такой изобретательный подход индивида к серьезности рассматриваемых им институтов порождает абсурд, приводящий к сдвигу в рациональности. В каждой мысли, чтобы найти истину, проверенные инструменты сообщества рассматривают единый ум, наполненный ограничениями.
21 век - спуск Параклета
То, что эта тенденция прослеживается в инстинктах последних поколений, никому не нужно доказывать. «Дух времени» во многих верованиях принес с 21-го века отрезвление, которое ярко показало ложность всех концепций, доктрин и даже чего-то гораздо более элементарного. Все социальные институты и инстинкты, сохраненные цивилизацией, доходят до памяти человека, которому помогает историческая мастерская. Убеждение в отсталости всего, что считалось нетронутым несколько десятилетий назад, поражает массовую культуру и «жизнь повседневных идей», используя термин, придуманный Дарием Карловичем. Распространение доступа к информации, массирование наук и, прежде всего, прогресс в смысле мира полностью отбросило бы существующие взгляды. Революционный дух предполагает, что современный человек на основе своего особого опыта, стоя в споре со взглядами и привычками, определяющими жизнь обществ из прошлого, может разоблачить их ложность, ограниченность... Даже необоснованно.
Это явление схоже по уровню взаимоотношений между индивидом и обществом. «Прогрессисты» говорят, что для достижения рациональности наш 21 век должен порвать с универсальными и устойчивыми тенденциями. Таким образом, они переводят свое творчество за пределы авторитета многовековой связной традиции. Точно так же современные рисуют отношения личности – общества. Чем больше теряется убежденность, тем чаще встречается слово, тем более ложным оно им кажется. Популярная парадигма нонкомформизма заставляет нас верить, что брак, семья, религия — это форма коллективного безумия, к которому люди приспосабливаются из-за его универсальности и давления общества. Поэтому при осуществлении модели поведения, укоренившейся в общине, не должно быть никакого права. Словом, на протяжении двадцати веков большая часть человечества поддавалась абсурдным поступкам, веровала в смутные суеверия. Наконец, все это безумие должно быть остановлено гением личности: и единым веком, который рассматривает все принципы предыдущих веков, и единым человеком, высмеивающим всякую некогда вселенскую истину.
Фердидуркетематическое исследование
Эта тенденция была выражена метафорически, а также в буквальном смысле, Витольдом Гомбровичем. Фердидурке. Читая это чтение, старшеклассники настаивают на том, что в этом нет ничего плохого. В ней автор представляет коллективные и преобладающие модели действий и убеждений как пустые формы: несправедливо дублированные под давлением людей, наблюдающих за нами. Человек, описанный Гомбровичем, является рабом конвенции, так или иначе продвигающейся исключительно потому, что общество ожидает от него этого. Согласно Гомбровичу, коллективное поведение является формой всеобщего безумия. Они не содержат зерна, рациональности или правильности.
Такой подход достаточно ясен в описании школьной среды. Автор Фердидурке Он представил в романе спор двух групп школьной молодежи: мальчиков и мальчиков. Лидеры двух пакетов, «Миетус» и «Сифон», символизируют разрыв между идеалистическими подростками, пытающимися найти ценности, достойные культивирования, и обычными сбродами, когда они молоды. Лидер последнего «Миета», как и любой «мятежник», очарован нарушением правил и ненормативной лексикой. Сифон, который является главой мальчиков, стремится стремиться к деятельности школы и воспроизводить образцовые отношения. Автор предполагает, что в этом расколе нет ошибок и правильности. Все его участники стоят на той или иной стороне из-за конвенции, «форме» которой подчиняются диктатуры. Таким образом, они воспроизводят некоторые шаблоны, вводя каноны без смысла.
Пустота существующих норм и общих верований далее иллюстрируется сценой урока польского языка, хорошо записанной в польской культуре. Учитель по имени «Бладачка» решительно говорит студентам, что словак был настоящим виртуозом лиризма, великим мастером пера. Но единственное, что он должен предложить, — это фраза «великий поэт был». Когда из зала изгоняют голоса, ставящие под сомнение прославленность пророка, учитель никак не может оправдать своего величия. Она передает пустые лозунги, условности, за которыми на самом деле нет сколько-нибудь значительного содержания. Культ для поклонения. Сцена капает абсурдом и гротеском, так же как молодежь использует школьную латынь. Странная традиция, анахронизм без обоснования, от которого вовремя не отказались.
В резюме: Фердидурке Гомбрович убеждает в пустоте, созданной цивилизацией институтов. Широко распространенные убеждения и поведение демонстрируются как дублирование бессмысленных действий под давлением общины, которая наблюдает за нами. На самом деле, однако, нет ничего действительно значимого для общих стандартов. Аналогично, автор ссылается на польскость в трансатлантический, обозначая его как используемую, анахроническую форму, от которой необходимо отказаться. Тексты Гормбровича являются хорошим отражением современного отношения к наследию и культурному наследию, наконец, социальным институтам, оставленным предыдущими веками. Современность говорит нам, что они либо неоправданны и пусты, либо являются формой универсального психоза, который сдерживал человечество до их прихода.
Современные модели мышления предполагают, что признание пустотности коллективного поведения и привычек находится в компетенции человека. Вивисекция культа меньшинства с флагманским примером ЛГБТ-движений хорошо объясняет это явление. «Нибинарные», «негетеросексуальные» люди сегодня обнаруживают, что разделение гендерных ролей, модель построения отношений, которую все человеческие сообщества любили в течение тысяч лет, ограничена и несовершенна. Особенно вовлеченные представители прогресса говорят, что жить вопреки этим вечным принципам возможно или привлекательно. На самом деле отклонение от нормы теперь не столько закон, сколько тенденция, мода или даже причина благородства. Тот, кто отклоняется от хорошо продуманных и закаленных путей, действительно будет мудрым человеком, имеющим дело с влиянием суеверия.
Либеральная реальность западной демократии — это, наконец, феномен от когнитивного до политического уровня. По мере того, как индивид становился надежным проверяющим универсальные социальные взгляды в видениях современных верующих, он становился рецензентом всей политической системы. Это явление основано на уважении сверху вниз и нерушимых «прав человека». Именно удовлетворение требований, способность осуществлять личные планы и видения, то есть, по мнению современных людей, справедливость системы. Если конкретный человек чувствует, что система накладывает на него ограничения, она ограничивает его свободу, значит, он не прав, чтобы существовать и должен быть уничтожен. Смертный приговор толерантному западному миру.
Признание превосходства разума над многовековыми истинами и методами действия может быть коллективно описано как: Утопия индивидуальная автономия. Этот термин оправдан тем, что современность предполагает, что человек, освобожденный от ограничений, наложенных на его творчество сообществом, готов самостоятельно познать различные истины или, по крайней мере, лучше понять природу мира. Однако во всех известных нам процессах, ведущих к точному познанию действительности, индивид должен приспосабливаться к установленным и универсальным стандартам. Особый ум подлежит общему суждению. Но прежде чем идти дальше, давайте сделаем важное различие.
Проблема не в том, что человек ищет возможности улучшить то, что он находит. И она предопределена. Но реальное улучшение мира всегда «на плечах гигантов». Хороший писатель знает гораздо больше мастерских, чем он сам, и хороший ученый... Именно. Посмотрим, что можно сказать об утопии индивидуальной автономии с точки зрения научной методологии.
Научная методология: Подавление творчества или необходимые рамки действий
Единственный способ, которым научный исследователь может представить научному миру результаты своего исследования и его выводы, - это опубликовать отчет об эксперименте в специализированном журнале. Этот процесс подчиняется многим требованиям. Эта наука отличается от публицистической тем, что, прежде чем отчетность из экспериментов конкретного ученого доходит до страниц такого письма, он проходит точный обзор, чтобы определить, насколько он соответствует методологическим стандартам. Само исследование, описанное в тексте, прежде чем оно произойдет в научном мире, должно соответствовать общим стандартам действия, называемым методом. Это набор принципов, отсканированных стандартов поведения, которые позволяют проверить, надежно ли выполняется опыт, а значит, и выводы на его основе, и может ли он вообще быть правильным. Например, в психологическом исследовании, чтобы доказать положительное влияние кофеина на когнитивный аппарат, необходимо будет сравнить правильное выполнение мысленной задачи под влиянием плацебо и кофе. Если это не будет включено в эксперимент, это не будет восприниматься всерьез.
Ссылаясь на эту схему действий на предмет статьи: Научная методология основана на выдающейся деперсонализации выводов и мышления. Принципы, установленные предыдущими исследователями, с доказанной эффективностью и превосходством становятся стандартами, которые необходимо соблюдать, чтобы «быть засчитанными в мире экспертов». В противном случае наука была бы наполнена полным хаосом и неопределенностью, пока не превратилась бы в публицистический круг интересов в результате распада. В лучшем случае – мозговой центр.
Между тем механизм создания научного метода во многом связан с процессом создания постоянных и универсальных институтов, которые на протяжении веков закладывали принципы жизни людей большинства культур. Хотя различные цивилизации до сих пор отличаются друг от друга обычаями, языками и т. д., почти все браки развивались как более или менее длительные отношения между мужчинами и женщинами. Всем им было дано особое измерение, окружавшее свадьбу сложным ритуалом. Точно так же трудно найти государство и культуру, которые бы не поклонялись Богу, какой-то абсолютной силе, управляющей миром. Большинство известных нам общин также создали политическую организацию: прежде всего государственную, хотя племенную нельзя забыть. Кажется абсурдным, что древний Египет, избранная нация или китайцы, формируя основы своих моральных систем, пришли к подобным выводам, независимо от географического положения и времени, убежденные, что люди объединяются в мужско-женские пары или строят структуры политической власти... или при отсутствии какой-либо законной мотивации.
Наблюдая эту «методологию жизни», человеческая мысль описывается как здравый смысл. Понятие становится более ясным, когда мы цитируем английское слово: здравый смысл. Это выражение можно буквально перевести как «здравый смысл». Мы говорим о здравом смысле и его использовании чаще всего, когда наблюдаем поведение, далекое от обычного, заявляя, что человеку его не хватает. Суть этого термина состоит в том, чтобы заметить, что подавляющее большинство людей следуют определенным проверенным образцам действия. Поскольку человек с маргинальным отступничеством живет определенным образом, естественно, что это не случайность, а вопрос человеческой природы. А также то, что какое-то поведение лучше подходит ей и приводит к лучшим результатам. Радикальное отклонение от этих моделей в лучшем случае рискованно и может оказаться трагическим. Консервативные политические мыслители уделяли этому аспекту большое внимание, подчеркивая, что универсальность даже семейных институтов предполагает, что это принцип жизни, который сам Бог установил для человеческих обществ. Наконец, мы можем испытать, приведет ли действие в ключе, обычно рассматриваемом как здравый смысл, нашу жизнь к разрушению и упадку или, скорее, к удовлетворительному поиску временной жизни.
Точно так же, как конкретные методы научного действия в результате опыта исследователей получили преимущество над другими и создали канон, такие специфические способы оказались более подходящими для человечества, что привело к их кодификации в священных законах, религиозных обрядах или обычаях. Однако современный «научный мир» предполагает, что мы игнорируем всю власть, которая исходит от культурной и временной универсальности этих явлений. Это сопровождается предположением, что с самого начала истории мы функционировали в паре полного безумия, пока нынешняя эпоха, пережив просветление, не порвала с гнетущим прошлым. В то же время, однако, когда он сам нуждается в правильных и реалистичных наблюдениях в науке, он охотно подчиняется индивидуальному разуму установленной конвенции.
Другая проблема, с которой сталкивается утопия индивидуальной автономии, заключается в том, что индивид подвержен гораздо большему числу умственных ограничений, чем сообщество, что подрывает саму основу концепции, которая придает ей большую рациональность. Во-первых, в разуме конкретного человека гораздо больше преобладают конкретные события, которые он переживает, и их прием исключительно с его собственной точки зрения. Коллектив не ограничен этим очень близким персоналом, поскольку он пользуется общим опытом всех его членов. В то время как в одной и той же ситуации человек не может быть богатым и бедным, моральным и коррумпированным, обязательным и ленивым, общественность имеет доступ как к одному, так и к другому. Таким образом, правила, применяемые к поведению его членов, могут выходить за рамки конкретной перспективы, которая при внезапном столкновении с изменившимися обстоятельствами может оказаться вредной для неподготовленного человека. Рассмотрим, например, изменчивость времен. Если бы человек основывался исключительно на опыте жизни в годы мира, он, вероятно, поставил бы социальные приоритеты в нижней части списка социальных приоритетов, чтобы защитить себя и заботиться о состоянии своей армии. Как видно из тысячи примеров, такое отношение не сулит светлого будущего. Но кто полагается на широко известную мудрость, выраженную в максиме? Si vis pacem, para bellumОн может спать спокойно.
Практика жизни очень сильно показывает, что этот человек остается более когнитивно ограниченным. Обратите внимание, что все наиболее важные решения принимаются в результате консультаций. Те, кто призван взвесить судьбу войны, попадают в штаб. Движение политических властей всегда определяет определенный орган, мы сами обращаемся к семье или другу, чтобы решить проблему. Таким образом, мы смещаем перспективу, с которой мы смотрим на события, чтобы иметь их более полный образ и не стать жертвой наших собственных ограничений. Каждые две головы – это не одна.
Человеческая природа: рациональность или безумие
Цитируемые течения, предполагающие, что человек может быть рациональным судьей, отвергающие тиранию безумия, которая веками господствовала над человечеством и доминировала над большинством жизней, сами впадают в иррациональность. Ибо если один человек может легко увидеть абсурдность определенных способов, то почему он вообще не способен на это? Предположения последователей утопии индивидуальной автономии убеждают их в том, что индивиды, строящие старые общества, отличались по своей природе от нынешних. Они жили в системе, глубоко нарушавшей жизнь, подчиняя человека патологическим принципам. Затраты на работу в такой реальности, несомненно, должны быть значительными и отсутствием «освобождения» от их обременительных последствий. Однако оказывается, что ряд наших предков были совершенно неспособны осознать собственные страдания. Короче говоря, они были иррациональными личностями, действующими в целом против собственного вреда.
Просветители пришли к аналогичной точке зрения. Знаменитые философы этой эпохи признавали, что до грядущего с ними прорыва люди фактически не использовали разум. Его обычное использование состояло в том, чтобы полностью изменить известную реальность. Как обещали эти мыслители, человек должен был отказаться от своей ссылки на веру или воображение в объяснении наблюдаемой реальности. Эти метафизические интерпретации мира должны были быть заменены расчетливой, точной рациональностью. Они сделали вывод: с новыми временами в мире будет полный порядок, счастье и порядок. Современный человек всегда принимает правильные решения и выбирает то, что ему выгодно и полезно.
Сегодня мы, поколения, которые должны были находиться за пределами этой просветленной границы, можем смеяться, читая подобные медитации. Освободились ли люди от традиционных социальных систем и, как утверждали мыслители описываемой эпохи, «студенты» выбирают на свободном рынке 21 века то, что выгодно их здоровью, интеллекту, что их развивает? Неужели человек отказался от саморазрушительного поведения и стал основой хладнокровной рациональности? Ответы на эти вопросы можно найти очень быстро двумя способами. Все, что вам нужно сделать, это пойти в первый институт психологии, чтобы изучить общие убеждения и когнитивные ошибки людей, чтобы увидеть, насколько «выдающаяся рациональность» современности. Но зачем идти на слишком большие неприятности? Можно проверить популярность препаратов, показатели ожирения...
Если Просветители и их сторонники думали, что они боролись с суевериями, то сегодня мы должны признать, что для их замены были созданы новые. В свою очередь, величайшие достижения интеллекта людей древности ушли в небытие. На самом деле природа человека на протяжении веков не изменилась из-за ямы. Оно всегда находится где-то между рациональностью и иррационализмом, и только воля индивида может подтолкнуть его к тому или иному направлению.
Окончание и забор Честертона
Британский мыслитель Гилберт Кит Честертон придумал категорию, которая была названа забором Честертона после его смерти. В синтетической форме он представляет то, что я пытался передать в приведенном выше тексте. История барьера Честертона довольно проста. Представьте, что мы движемся по дороге и сталкиваемся со случайным забором. Он расположен поперек тропы, так что до другой стороны можно добраться только через ворота. Однако мы не сталкиваемся с какой-либо угрозой, которая могла бы оправдать такой барьер. Поэтому мысль состоит в том, чтобы снести его. В конце концов, это сказывается на прохожих, и полезность его кажется малой.
По мнению британского консерватора, снимать забор не особенно мудрая идея. Прежде чем приступить к демонтажу, мы должны знать, почему был установлен барьер. Затем, как только мы достигнем его, мы должны проверить, сколько он остается. Если нет, то мы можем снять забор. Если нет, то можно избежать вреда.
Речь Честертона — это метафора, которая говорит о стремлении различных течений перестроить общество, его права, институты или обычаи. Потому что люди, как предлагает Честертон, не ставят заборы через дорогу без причины. Думаю, мы все можем с этим согласиться. С построением вышеупомянутого точно так же. Однако сегодня они не проверяют сооружения, построенные предками. Для этого они строят идеологии, которые говорят, что они мазохисты, заблудившиеся в тумане собственных иллюзий. И из этой тьмы суеверия Аристотель низко поклоняется Платону и Марку Аврелию.
Текст опубликован в 26-м номере журнала «Национальная политика».