В богатой метафоре международных отношений есть обещание, что Китай «не стремится взорвать» Америку. Это произошло на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Калифорнии 15 ноября 2023 года, когда два величайших противника Джо Байден и Си Цзиньпин заверили в готовности «свернуть мир с края пропасти».
Только эти сигналы свидетельствуют о том, что Китай формирует динамику конкуренции между крупнейшими державами. Ставя перед бывшим руководством США геоэкономические и геополитические вызовы, они меняют векторы взаимной зависимости. Спустя несколько столетий центры инициатив и инноваций перемещаются с запада на восток. Поворот России в сторону Азии также способствует этому. Последние три столетия она была направлена на оккупацию, на которую набрался и Запад. Россия сейчас поворачивает на восток, делая ее участником "большой игры" Евразии, часто против Запада.
Универсальная потеря доверия
В американо-китайско-российском треугольнике важнейшей проблемой является потеря доверия сторон в плане контроля за риском взаимных атак. С момента окончания холодной войны не было такой ситуации, чтобы восприятие взаимных интересов и ценностей наполнялось такой высокой неопределенностью. Когнитивный потенциал политических лидеров также был подорван как в отношении выявления источников угроз, так и в отношении превентивных действий, предпринимаемых индивидуально и коллективно на профессиональном уровне. Масштабы изменений и трудности в определении их последствий превышают способность среднего наблюдателя понимать реальность.
Это тем более трудно, что знания и исследования заражены идеологическими ценностями, а производство социального страха и создание врага стало важнейшим средством политической мобилизации обществ друг против друга. Таким образом, экзистенциальная рациональность «международного общества», сформировавшегося после Второй мировой войны, стала сомнительной. Перед лицом новых вызовов цивилизации (консолидация экономики, массовое перемещение населения, изменение климата и окружающей среды, растущий диапазон доходов, продовольственные кризисы и т.д.) институциональные механизмы регулирования потерпели неудачу. Управлять экономическими процессами не было операторов, и во многих случаях националистические настроения и эгоистическое соперничество преобладали над осознанием сообщества. Коллективный Запад не смог предотвратить надвигающуюся катастрофу.
В диагностике причин разложения нынешнего международного порядка необходимо вернуться на несколько десятилетий назад, когда западный блок поддался эйфории и триумфу после "победы в холодной войне". Это было неожиданное время относительной стабильности, и по крайней мере одно поколение жило в блаженном убеждении, что никто не сомневался в достигнутом статус-кво. Америка объявила себя гегемоном международной системы, веря — с помощью различных политических, экономических, военных, идеологических и пропагандистских методов — в свою победу над остальным миром («однополярный момент»). Объективно у нее не было никого настолько сильного, чтобы противостоять ее гегемонистским устремлениям, ценностям и интересам.
В результате динамичного соперничества сил оказывается, что этот «век счастья» позади. Постоянные процессы концентрации и поляризации сил — объективное явление — приводят к образованию новых созвездий сил, способных бросить вызов нынешнему порядку. Он был построен под знаком глобализации, которая на коллегиальном жаргоне означала вестернизацию, и тем самым подчиняла различные сферы социальной жизни и экономические правила, продиктованные коллективным Западом.
Последние годы показали, что ни капиталистический порядок в экономике, ни либеральная демократия в политике не являются панацеей от человеческих кризисов. Напротив, у нас есть достаточно доказательств того, что грабеж планеты и человечества под знаменем свободной конкуренции и протекционизма есть не что иное, как очередной акт империализма и неоколонизации земного шара. Масштабы зависимостей, которые слабы от сильных, никогда не принимали размеры наших глаз.
Все эти геоэкономические и геополитические явления требуют пересмотра международной системы. Его быстрые изменения определят жизнь в ближайшие десятилетия, в то время как большинство комментаторов сосредотачиваются только на том, что наблюдается сегодня — рост недоверия и эмоциональной враждебности. Так где же место рационализации глобального управления, чтобы не привести к катастрофе? Как мы можем освободиться от цепей навязанных разделений и предрассудков, чтобы увидеть в динамике времени и пространства шансы спасти земной шар и человечество от негативных последствий конкурирующих держав?
Вытаскивать веревку
Конкуренция между державами в настоящее время проходит на трехстороннем уровне, причем Россия находится, так сказать, между американской «формой» и китайской «вилкой». Возможно, исход борьбы за Украину между Западом и Россией в конечном итоге будет зависеть от того, усилит ли после этой борьбы Китай больше или ослабит Запад. В любом случае, Китай является долгосрочным вызовом для Америки и источником стратегических угроз, в то время как к России относятся с точки зрения «меньшего риска», когда речь идет о подрыве статуса гегемона.
В общем восприятии Китая и России, если посмотреть сквозь призму реакции на Западе, именно эти две страны «бросают» самый большой вызов США и являются угрозой всеобщему управлению. Вот так администрация начала представлять дело. Барак Обама (2009-2017), затем Дональд Трамп (2017-2021). В последующих версиях Стратегии национальной безопасности Китай и Россия стали называть себя ревизионистскими державами.
В то же время США присоединились к идеологическому наступлению, руководствуясь национализмом и экономическим империализмом. Протекционизм по отношению к технологическим гигантам разрушает существующие правила экономической торговли. Последующие транши санкций, наложенных на Россию, показывают, как неправильное представление интересов сторон приводит к созданию сообщества рисков, оправдывающих эскалацию мер, в том числе применение силы.
Поэтому мы сталкиваемся с односторонним и предвзятым диагнозом международной системы, в которой основные противники США не имеют права претендовать на свое место в глобальном распределении сил, а оспариваемый вызов американской гегемонии считается преступлением. Это результат трагического разрыва американских стратегов с концепцией баланса сил.
С древнейших времен это означало такое распределение власти между государствами или союзами, при котором ни одно из них не превалирует решительно над другими и не позволяет ни одному государству или союзу получить чрезмерное преимущество над другими. Когда одна из держав обретает первенство и стремится к гегемонии, международной системе грозит «сворачивание». Поэтому чрезвычайно важным было воспитание в исторических процессах различных регуляторов, начиная от балансирующих и противовесных ролей (балансировщиков, арбитров), через коалиционную изменчивость, создание нейтральных и буферных зон, разделение влияний, интересов и обязанностей.
Баланс сил...
Таким образом, это была явная тенденция в международных отношениях и до Первой мировой войны гарантировала стабильность системы в качестве многосторонней стратегии безопасности. В 20-м веке каждая империя, которая бросала вызов остальному миру (Германия, Япония, СССР), рано или поздно встречала соответствующую реакцию других, чтобы помешать одной власти управлять другими. Мировые войны привели к бесчисленным жертвам из-за этого.
Холодный Военный период ознаменовался тупиковой ситуацией, когда два военно-политических блока столкнулись друг с другом, шантажируя друг друга угрозой ядерного уничтожения. Возможно, этот «бронированный мир» был самой безопасной эрой в современных международных отношениях в отношении уважения глобальной безопасности и установленных правил для каждой из сторон.
Ситуация кардинально изменилась, когда после распада СССР США остались «победительницей» в противостоянии холодной войны. Благодаря экономическому процветанию и технологической революции, без соперников, способных выстраивать противовес, они стали центром привлечения и подчинения более слабых партнеров.
Стратегия уравновешивания сил самопроизвольно заменила стратегию бандвагона. Сам термин имеет родословную 19-го века и относится к американским избирательным кампаниям, когда к железнодорожному объезду кандидата были прикреплены дальнейшие вагоны, «поставившие на хорошую лошадь», с надеждой на его победу. В международных отношениях это явление известно так же давно, как уравновешивающие силы, но только в 1980-х годах американский политический реалист Стивен Уолт вспоминал его в контексте возрождающейся тенденции концентрации сил. Она выражается в ответе слабых стран на существующие угрозы присоединением к более сильной державе. Для последних это означает возможность пространственной экспансии, расширения сферы влияния и присвоения глобальной ответственности.
Страх перед нынешним гегемоном, которым для восточноевропейских государств был СССР (после России), вылился в поворот в сторону Запада (США и НАТО). Это, конечно, не обошлось без участия западных силовых центров, которые в своем соперничестве с Россией задавали максимальное использование ее ослабления. В этом процессе дерегулирования исчезли стабилизаторы взаимного балансирования сил. Нейтралитет утратил свой прежний смысл, буферизация стала проклятием, а соперничество за влияние приняло характер открытых интервенций. Западное участие в разделе Югославии в 1990-е годы было исключением, и теперь проатлантическая политика Финляндии, которая отошла от роли «брокера» мира и модератора, приняв позу фронтового государства, была своеобразным куриосием.
Он прав. Лех МажевскийЭто «неблокирующий пояс государств из Финляндии и Швеции, далее прибалтийских республик и Белоруссии, пока Молдавия и Украина не перестанут существовать — в большой ущерб нам». Тогда Россия будет далеко к востоку от наших границ, и никакой войны не потребуется. Все, что вам нужно было сделать, это следовать простому принципу: primam non nodere.
Новые угрозы
Понимание этих изменений международной системы позволяет взглянуть на динамику силовой конкуренции с другой точки зрения. Это уже не традиционные отношения между сильными и слабыми, а исключительный технологический суверенитет сильнейших. Проблема сводится к растущим рискам не только следующей, не вполне предсказуемой технологической революции, но прежде всего неспособности политических институтов (как внутри, так и на международном уровне) контролировать новые вызовы и угрозы.
Огромная непредсказуемость происходящей технологической революции выражается даже в развитии искусственного интеллекта. Когда она достигнет критической точки в своем развитии, возникнет естественный соблазн использовать технологические инновации, особенно в области вооружений, в бою. Это может стать жертвой целой цивилизации. Поэтому так важно сейчас разорвать этот установившийся в истории цикл катаклизмов.
Надежда на решение стоящих перед человечеством проблем состоит в том, чтобы вернуться за стол переговоров, как это произошло недавно в Калифорнии, а также по случаю катарского посредничества между Израилем и палестинским ХАМАСом. Коллективный Запад должен отойти от идеологических крестовых походов и понять, что далеко не везде в мире увенчается успехом проект неолиберальной экономики, когда капитал подчиняется политической власти. Китай — это явление, за которым также следуют Россия и многие страны. Юг, сохраняющий политический суверенитет, и государство со всеми его суверенными атрибутами ставят на первое место. Этот вызов сложен не только для западных лидеров, но и для экономистов, которые задаются вопросом, как совместить мощь рыночных механизмов с мощью регулирования в ближайшие десятилетия.
Складывается впечатление, что при сложной ситуации, в которой крупнейшие державы оказались по отношению друг к другу, единственным вариантом является обращение к политическим реалистам с просьбой восстановить рациональность механизмов принятия решений и вступить в диалог на высшем уровне. Надежда — это прагматичное отношение Китая, который устами Си успокаивает, что «планета Земля может вместить наши две страны, и успех одной из них — это возможность для другой». Отметив, что Китай говорит о большой симпатии, это заявление демонстрирует готовность попытаться выработать общую позицию. Его отсутствие заставит каждого действовать в соответствии со своей проницательностью, тем самым увеличивая вероятность хаоса, неверных толкований и недоразумений.
Жаль, что средним и малым странам не хватает вдохновляющего международного диалога, который может не только вытекать из разных культурных традиций, но и показывать альтернативные пути развития. Их вклад мог бы заключаться не столько в некритичной поддержке односторонних решений державы-гегемона, ведя за собой целую команду государств, сколько в переопределении определенных ограничений и общих правил, снижении риска кризисных ситуаций.
Продолжающиеся войны (к счастью, никогда не было прямого заключения трех сильнейших держав, упомянутых здесь) показывают, что все технологические наступательные возможности, наконец, равны оборонительным мерам, которые вместе с человеческими усилиями - как на Украине - уравновешивают их. Но не каждая страна может столкнуться с такими вызовами! Украине повезло (и жаль), что она получает беспрецедентные выгоды от внешней поддержки. Однако на небе и на земле появляется все больше признаков того, что эта решимость помочь ей явно ослабевает.
Украинский случай...
Это также показывает, что из-за сложных геополитических условий далеко не каждая страна способна эффективно укрыться «под крылом» нового покровителя. Есть много признаков того, что эта бессмысленная война будет неубедительной до тех пор, пока квотербеки не вернутся за стол переговоров и не согласуют общие правила игры, уважая неделимость безопасности в первую очередь.
Как должна реагировать Польша? Прежде всего, восстановленная дипломатия нового правительства должна войти в повестку дня всех возможных консультативных органов и дебатов вокруг восстановления стандартов в межвластной коммуникации, чтобы не оставаться на обочине важнейших решений.
Польские руководители должны сбалансировать свои действия и упущения на сегодняшний день и восстановить основы для нового открытия как в евроатлантических, так и в восточных векторных отношениях, включая Россию и Китай. Прежде всего, необходимо определить, в какой момент Польша находится в контексте изменений в международной энергетической системе. Упорство в доктрине абсолютной лояльности по отношению к США, нерефлексивное слушание директив ЕС и атавистическая враждебность по отношению к России сбивают с толку польскую политику и экономику. Следует помнить, что в международных отношениях хорошо просчитанные интересы имеют гораздо большую прочную ценность, чем декларируемые чувства, хотя они должны иметь ценность «вечной дружбы или надежного завета».
Профессор Станислав Билен
Подумайте о Польше, No 49-50 (3-10.12.2023)



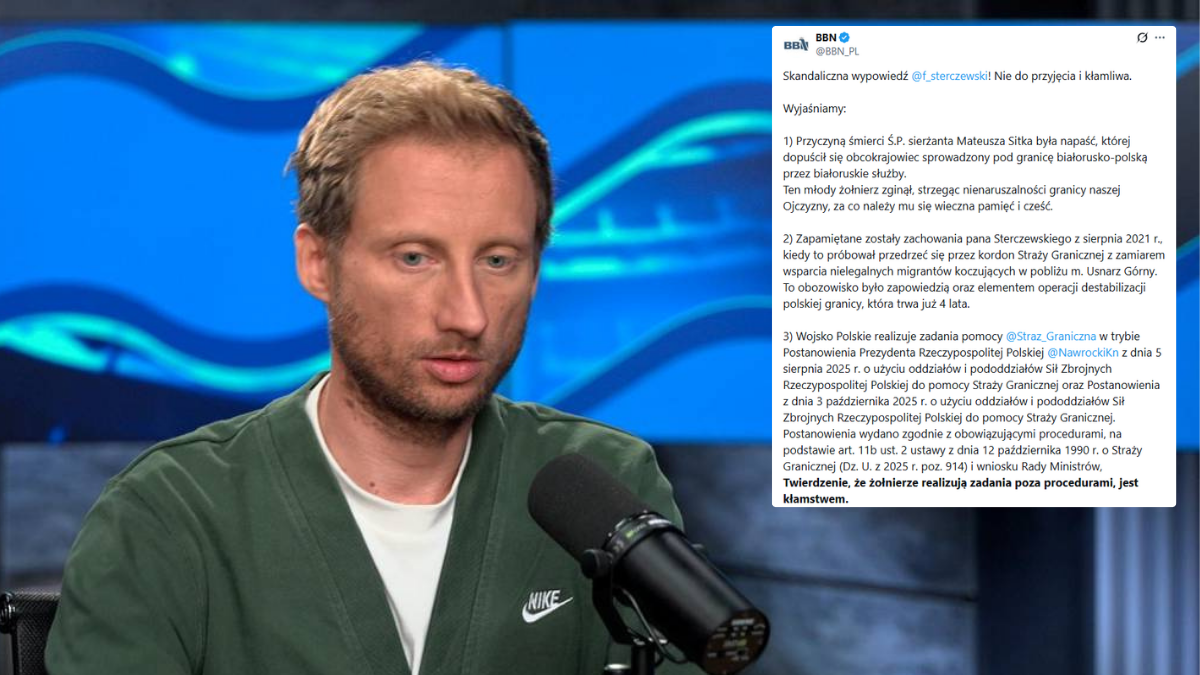








![POWIAT BOCHEŃSKI. Ładunek wybuchowy w szkole? Nie, to tylko ćwiczenia dowódczo – sztabowe [ZDJĘCIA]](https://bochniazbliska.pl/wp-content/uploads/2025/10/386-149834.png)
