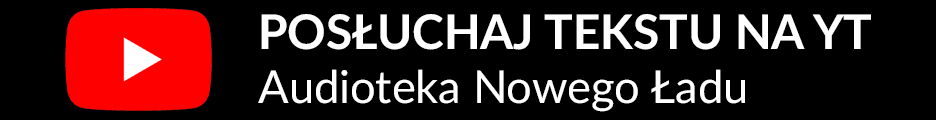
5 мая 2023 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила об окончании пандемии COVID-19. Вирус Ухань должен был вызвать необратимые изменения в менталитете человека. «Ничто не будет прежним» - Обещали СМИ, политики и медицинские власти. Между тем, никакой «новой нормальности» не произошло, и мир возвращается к тому, каким он был. Что произошло на рубеже 2019 и 2020 годов? Был ли новый коронавирус действительно большой угрозой и необходимостью блокировки, или опасность была в основном в наших головах? Эти вопросы сегодня еще более актуальны, чем во время пандемии.
По прошествии более года с момента его официального завершения напрасно искать содержательный анализ и урегулирование совместной политики. Мы быстро перешли к повестке дня, что в последнее время почти всю нашу общественную жизнь мы подвергли одной проблеме — опасно быстро распространяющемуся респираторному вирусу. Было ли чего бояться? Данный текст представляет собой попытку взглянуть издалека на наиболее важные и спорные вопросы, связанные с пандемией.
Существует ли вообще коронавирус?
Популярный бон-мот говорит, что история состоит из теорий заговора, которые оказались правдой. Эта меткая поговорка может быть идеальным оправданием для проповеди глупцов, не доказывая их. Конечно, иногда странные и, казалось бы, оторванные от реальности концепции, постфактум, оказывали поддержку в реальности. Однако само наблюдение случайного возникновения этого явления не освобождает наблюдателя от поиска доказательств его утверждений. Люди, отрицавшие существование пандемий COVID-19 или даже самого вируса, часто полагались на аргументы заговора. Много чепухи было сказано о новом коронавирусе и социальной ситуации, которая сложилась в результате его быстрого распространения. Между тем, правда в том, что вирус SARS-CoV-2 существовал и существует до сих пор. Врачи и ученые сначала наблюдали много новых респираторных заболеваний, а затем изолировали вирус. Вирус был тщательно исследован под микроскопом и на какое-то время стал самым наблюдаемым микроорганизмом в мире.
Между сказками должны быть вставлены все понятия планируемой пандемии, называемой «пландемией». Коронавирусные ограничения не были частью прихода Нового Мирового Порядка, как предсказывали авторы некоторых фильмов, статей и скептических книг для основного повествования.
Но я больше не злюсь. Абсурдные теории заговора, конечно, легко (и довольно приятно) смеяться, но слишком много такого наклона не приводит ни к чему хорошему или конструктивному. COVID-19 является болезнью, которая убила более 7 миллионов человек во всем мире. Болезнь, к которой нужно относиться серьезно и которая требует серьезного обсуждения, а не очередного племенного избиения по голове. Избыточные эмоции и построение новой социальной оси деления на болезнь не помогли эффективно бороться с пандемией. Одним из главных грехов политического и медийного мейнстрима было бросить всех сомневающихся в один мешок во время пандемии, что конкретизировало рациональную дискуссию о жадной политике. Тот факт, что вирус существует, а пандемия действительно имела место и собрала свой смертельный урожай, бесспорен. Однако это не является достаточным основанием для того, чтобы закрыть половину государства и подвергнуть социальную жизнь одному из многих рисков для здоровья. Итак, давайте спросим себя: действительно ли вирус был настолько опасен, чтобы принимать меры в таких больших масштабах?
Специфика пандемии COVID-19
Ни одно заболевание не может быть описано с одним числовым значением. Есть также одно число, которое дает нам четкую информацию о том, насколько опасно заболевание. Всеобщее определение смертности от COVID-19 фактически невозможно. В публичной сфере безрассудно лились статистика и понятия, понимание которых превосходит способности необразованного человека. Смертность, коллапс, инфекционность, смертность и многие другие столь же абстрактные термины сравнивались с теми, кто не знал эпидемиологии. Проблема сложности определения того, насколько серьезен риск заболевания, не является исключительной для COVID-19.
Установление надежного, сопоставимого показателя смертности от различных заболеваний, как правило, является довольно сложной задачей, учитывая большое количество переменных, влияющих на заболевание. Это связано, в том числе, с проблемой невозможности включить статистику по всем людям, попавшим в заболеваемость.
Таким образом, в то время как люди обычно обращаются в больницу в случае внезапной, тяжелой болезни, многие люди лечат себя дома в случае болезней более разнообразного характера. Конечно, доступ к врачу и качество медицинской помощи также оказывают существенное влияние на смертность. Например, общий уровень смертности от COVID-19 в Перу достиг 4,9%, в то время как в Италии он составил всего 0,7%. И мы говорим об одной и той же болезни.
В Польше трезвому взгляду на ситуацию также не способствовал тот факт, что в течение многих лет в нашей системе здравоохранения существует серьезная проблема с достоверным сообщением о смерти врачей. Это очень высокий процент так называемых «множественных кодов», т.е. ввод в качестве причин смерти паролей, которые мало говорят о реальных причинах, по которым пациент покинул этот мир, например, «остановка кровообращения». В нашей стране почти 30% зарегистрированных причин смерти относятся к этому типу, бесполезны для статистического анализа, информации.
С тех пор Я вкратце объяснил читателю, что избегаю переоценки со специализированными понятиями и сложными данными, вернёмся к существу рассмотрения. Подробное сравнение нового коронавируса с гриппом или другими широко известными исполнителями сезонных заболеваний следует оставить эпидемиологам. Какова бы ни была смертность от COVID-19, из статистики ясно, что вирус был самым опасным для пожилых и больных. Во всем мире 71% тех, кто умер от этой болезни к маю 2023 года, были старше 65 лет. Эти данные были подтверждены наблюдением действительности — ковидные ветви были полны людьми со многими другими заболеваниями и пожилыми людьми. Если COVID в первую очередь убивает пожилых людей, значит ли это, что это не такая опасная болезнь, как ее изображали?
Эту проблему лучше всего иллюстрирует пример северной Италии. Исследования, проведенные в одной из миланских больниц, показали, что госпитализация во время второй и третьей волн включала меньший риск смерти, чем во время первой волны (25 % и 42 % соответственно). В группу пациентов, среди которых наблюдалось наибольшее улучшение в лечении, вошли пациенты в возрасте 46-60 лет. Авторы связывают это изменение с общим улучшением качества ухода и лучшей подготовкой к последующим коронавирусным волнам. Пациентам в тяжелой стадии заболевания необходима кислородно- или респираторная терапия, т.е. стационарное лечение, с квалифицированным медицинским персоналом и объектами инфраструктуры. Проблема с коронавирусом заключалась не в том, что это было опасное заболевание, выходящее за рамки наших прежних представлений об опасных заболеваниях. Внезапное, волновое «добавление» пациентов в больницы (и так перегруженные на ежедневной основе) привело к тому, что не все из них получили адекватную своевременную помощь. COVID-19 не был чрезвычайно опасен для среднего человека. Но он был очень опасным заболеванием для общественного здравоохранения, потому что его волны приходили бурно и пожинали большие урожаи. Заболев во время одной из коронавирусных волн, пациент имел меньше шансов на получение эффективной помощи. Перегружены были не только больницы, но и медицинские учреждения. Добавление ковидных коек и выделение дополнительных ресурсов для борьбы с пандемией не привело к появлению в системе большего количества персонала для ухода за пациентами. Открытие палат для лечения нового заболевания привело к потере врачей и медсестер в других местах. Кроме того, многие клиники и клиники не работали должным образом из-за страха заражения. Особый режим работы системы здравоохранения привел к увеличению задолженности за здоровье, т.е. увеличению числа пациентов без своевременной диагностики и задержки во время планового лечения. Последующие волны коронавируса и связанные с ним ограничения усугубили эту проблему.
Локдауны и пандемическая политика
Тот факт, что ситуация была сложной и беспрецедентной, не оправдывает неэффективности действий государства. Пандемия, как реальная и как можно более серьезная, выявила многие проблемы со здоровьем и в то же время продемонстрировала на различных уровнях беспомощность государства перед новой проблемой общественного здравоохранения. Осознание реальности угрозы и признание того, что с вирусом необходимо бороться на социальном уровне, не означает, что следует защищать иррациональные действия, предпринимаемые правительствами по всему миру (поскольку Польша не является исключением в случае абсурда Ковида). Между отрицанием проблемы и желанием сосредоточить все общественное внимание исключительно на коронавирусе существует широкий спектр взглядов, в которых должен двигаться рациональный анализ. Глядя на постфактум, следует отметить, что окончательный баланс пандемии в Польше не оказался полезным.
Наиболее образным понятием является «чрезмерная смертность», то есть избыточная смертность населения над прогнозируемой на основе статистики здравоохранения. Около 200 000 случаев избыточной смертности показывают очень негативную картину того, как мы справлялись с COVID-19. Картина многих вещей, которые идут не так. Точилка была перенасыщена многими нелепостями. Философия закрытия различных отраслей здравоохранения привела к ситуациям, когда медицинский персонал часто не мог лечить «ковидных» или «нековидных» пациентов. Врачи и медсестры, которые не выполняли запланированные процедуры, часто не были направлены на лечение пациентов, инфицированных коронавирусом, просто имея меньше работы. В то же время сотни тысяч пациентов были заперты в своих домах и ожидали проведения диагностики или операции, необходимой для их здоровья. Испуганные врачи были заперты в своих кабинетах, а страдающие больные люди лежали в своих кроватях в своих домах.
Первая волна коронавируса должна была стать временем ожидания, узнать о новом заболевании и найти правильный способ борьбы с ним. Между тем, у правящей партии отсутствовала иная идея, чем та, что на очередные осенне-весенние волны болезней люди снова запираются в своих домах.
После весны 2020 года не было убедительных способов достаточно увеличить потенциал здравоохранения. Однако следует признать, что резкое повышение производительности больниц является весьма сложной задачей. Если бы целью правителей было повысить его до уровня, достаточного для ухода за всеми больными во время коронавирусных волн, можно было бы сказать, что это была невыполнимая миссия. Поэтому пандемию нельзя было оставить в покое, и необходимо было принять меры для смягчения последствий быстрого роста заболеваемости.
К сожалению, другой неудачей было отсутствие надлежащей культуры и ответственности в обществе, поэтому резкое ужесточение правил часто считалось мертвым. Другая волна пандемии сопровождалась большим когнитивным диссонансом. Что еще можно назвать ситуацией, когда в момент подъема волны новых инфекций в октябре 2020 года огромные уличные протесты за аборты пересекают Польшу? В результате неудачи государства страх был основным фактором, ограничивающим распространение волн болезней. Эта эмоция должна была адекватно подпитываться, следовательно, часто любопытство, вызывающее серьезные этические сомнения, манипулирование людьми через СМИ. Это привело к тому, что вирус стал предметом серьезного социального разделения. Цель всей этой путаницы состояла в том, чтобы сохранить эффективность системы здравоохранения и помочь как можно большему числу людей. Медиа-коммуникации все меньше говорят о необходимости солидарности, чтобы мы могли помочь всем нуждающимся профессионально и все более иррационально запуганным.
Результатом всей путаницы стала низкая эффективность политики блокировки, что ясно видно в ретроспективном анализе. Исследования показывают, что введение правовых предписаний и запретов не имеет гораздо лучшего эффекта, чем подход, основанный на рекомендациях и призывах. Громкая работа 2022 года Джонаса Херби и его коллег показала, что общий эффект блокировок на смертность в США и Европе составил всего 3,2%, что помогло избежать около 10 000 смертей из-за этого заболевания. Это не означает, что сохранение социальной дистанции, ограничение контакта или ношение масок не препятствовали росту инфекций. Просто законодательство само по себе не препятствует распространению инфекционных заболеваний. Запреты были настолько неэффективными, что зачастую имели такой же эффект, как и невынужденные публичные призывы экспертов и политиков. В конце концов, все поняли, что многие предостережения были выдумкой, и что следование рекомендациям в значительной степени является вопросом личного отношения, а не соблюдения буквы закона. Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска публично поделился этим убеждением, оправдываясь мягкой политикой правительства: «Поляки относятся к таким предупреждениям с большой осторожностью. У нас есть ген оппозиции». Вопрос в том, не приходилось ли поэтому полагаться на интуицию толпы и личную ответственность? С высокой степенью вероятности воздействие на здоровье было бы аналогичным, и мы бы избежали многих негативных последствий пандемии.
Похоже, что современная модель либеральной демократии просто не является системой, которая допускает такое далеко идущее вмешательство в поведение граждан и в будущем необходимо искать другие методы управления кризисами в области здравоохранения.
Вакцины – успех фармацевтического лобби?
Самым большим спором за несколько лет пандемий было быстрое начало вакцинации и вопрос о принуждении или добровольном приеме. Мы также обсудили, является ли вакцинация нашей ответственностью перед коллективным или индивидуальным выбором каждого гражданина. Давайте, наконец, разрешим эту манипулятивную и полунавязчивую дискуссию и ответим на вопрос: были ли вакцины против COVID-19 эффективными и безопасными?
Исследования показывают, что да. Многие люди проявили далеко идущий скептицизм в отношении перспективных клинических испытаний, положительные результаты которых решили выпустить вакцины в оборот. Сегодня можно посмотреть на прививки на расстоянии. В результате этого мы знаем, что хотя со временем защита от вакцинации снижалась и эффективность разных видов вакцин была разной, исследования, проведенные после выхода препаратов на рынок, подтвердили их эффективность.
В ходе пандемии COVID-19 вакцинация была самым рациональным поведением. Это снижает риск заболевания, госпитализации, тяжелого течения или осложнений от болезни.
Во всех отношениях прививаться было выгоднее, чем заразиться COVID, который, даже если многие из нас не оказались опасными, был болезнью часто неприятной и требующей выздоровления. Преимущества перевешивали риски, и в конечном итоге мы все либо заболели, либо вакцинировались (и часто оба).
Тем не менее, много неправды было сказано о прививках во время их продвижения. Медицинские власти перед камерами говорили, в частности, о предполагаемой защите «100% людей от тяжелой болезни» и отсутствии каких-либо осложнений, кроме очень редких аллергических реакций. Привитые не должны были болеть или заражаться вообще. Человек, пропитанный такими высказываниями, мог бы поверить, что вакцинация действительно может полностью защитить его от всего зла этого мира. Однако такие категоричные заявления также могут вызывать скептицизм. Этот скептицизм был в какой-то степени оправдан. Вакцины имеют больше побочных эффектов, чем было дано вначале. Подтверждены случаи тромбоза, редких неврологических заболеваний или миокардита. Тем не менее, побочные эффекты относительно низки, и общий профиль безопасности препарата по-прежнему очень положителен - лучше, чем многие обычно используемые препараты. Очевидно, что ни одна из вакцин не оказалась 100% защитой от инфекции. Фактически, эффективность различных препаратов варьировалась примерно на 80% для профилактики заболеваний и примерно на 90% для тяжелых заболеваний. Вакцина от COVID является первым препаратом в истории без каких-либо побочных эффектов. Трудно быть уверенным, что это первое, что работает для всех. Для того чтобы мобилизовать людей на прививки (что было рациональным и справедливым действием), было решено «очищать» реальность. Защита на уровне 99%, а не 80% гораздо важнее для воображения человека, хотя оба значения очень высоки. Государственные органы в своей пропаганде превзошли себя в абсурдности, показав ценности, превышающие даже официальные данные производителей. Они, кстати, тоже часто казались немного усовершенствованными в маркетинговых целях. Однако фармацевтические компании не могут отрицать, что они создали эффективную вакцину, которая, вероятно, спасла много жизней.
Что случилось с пандемией?
COVID-19 перестал быть глобальной проблемой здравоохранения, поскольку большая часть населения получила иммунитет против SARS-CoV-2. Мы все еще больны, но это стало еще одной сезонной инфекцией, которая не вызывает особой путаницы в социальной сфере. Вирус существует среди нас, но он перестал быть такой большой угрозой для нас самих и системы здравоохранения. Было подтверждено, что каждый должен будет либо заболеть, либо вакцинироваться против нового заболевания (и часто обоих). Таким образом, наступил период более чем трехлетнего кризиса, с которым столкнулись развитые общества во всем мире. Во многих вещах сегодня мы можем быть умнее, потому что мы смотрим на них прохладно. В дополнение к прекращению коронавируса как опасности для здоровья, коронавирус также стал горячей темой общественных дебатов. Сегодня мы должны отложить в сторону ненужные эмоции и вступить в честный диалог о том, что следовало бы сделать лучше во время пандемии. К сожалению, в средствах массовой информации преобладают недорогие эмоции, а аналитические центры и аналитические центры не желают проводить честные дебаты на тему того, какая грузоподъемность стала очень низкой. Вступая в этот пробел, я постараюсь проанализировать пандемический период с точки зрения общения эксперта и политиков с общественностью и изложить свое мнение о том, что пандемия сказала нам об устойчивости нашей страны к кризису.

















